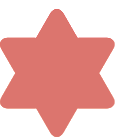09.05.2025
«Сберечь самое дорогое». Тамара Полякова вспоминает о блокаде и войне
История о том, как преданность отца и организованность матери спасли жизнь их детям
Это вторая часть воспоминаний членов семьи Ильи Яковлевича Полякова, крупного ученого-зоолога, участника Великой Отечественной войны, который оставил интереснейшие мемуары. Пока Илья Поляков был на фронте, его семья оставалась в блокадном Ленинграде, пережив самые голодные и страшные месяцы. Первый материал об этой семье был посвящен недавно скончавшейся старшей дочери Ильи Яковлевича – Рэме. Сегодня – слово средней дочери Полякова, 88-летней Тамаре Ильиничне Лендовер (Поляковой), которой к началу Великой Отечественной войны было четыре года.
Переезд в Ленинград и начало блокады
Я многое помню из детства, это были такие события, которые навсегда откладываются в памяти. Помню примерно с того времени, когда мы в 1939 году переехали в Ленинград из Актюбинска.
Родители учились вместе в школе и в институте, вся их жизнь проходила вместе. Папа был талантливым ученым. Его взяли в аспирантуру еще на третьем курсе института. Всю жизнь он проработал во Всесоюзном институте защиты растений (ВИЗР) в Ленинграде. Это была его единственная запись в трудовой книжке.
Сначала он от института организовал станцию защиты растений в Крыму, потом его перевели в Актюбинск. В Актюбинске я родилась. В 1938 году папа уже защитил кандидатскую диссертацию. В институте шутили, что сначала он был самым молодым кандидатом наук, потом самым молодым доктором наук, а потом – самым молодым дедушкой.
В 1939 году мы приехали в Ленинград. Папу определили на должность начальника лаборатории прогнозирования. Дали нам квартиру, бывшую заводскую фотолабораторию. Эта квартира представляла собой одну большую комнату с окном. Фотолаборатория – чем меньше света, тем лучше. Единственное окно выходило в полутемный угол двора. Была еще одна маленькая темная комнатка, кухня, и все.
Но потом, во время блокады, это оказалось удобным. Квартира была в глубине, защищена отовсюду. И в блокаду, до того, как наши соседи разъехались с детьми в эвакуацию, одно время все жили у нас в маленькой темной комнате. Там питались, и дети были там. А «гулять» нас отправляли в большую комнату. А когда все разъехались, мы перебрались в эту комнату жить.
Первый обстрел
Папа был кандидатом наук, имел бронь. Но в самом начале войны он добился, чтобы его взяли в армию. Мама пошла его провожать на сборный пункт, а мы оставались дома. В тот день был первый обстрел Ленинграда. Жили мы на бульваре Профсоюзов, дом 7. Это интересное здание – дворец в мавританском стиле (Дом Кочубея), с красивой решеткой и украшениями в виде голов мавров.
 Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Пока мамы не было, мы оставались во дворе. Начался обстрел. Во дворе был навес с колоннами, под крышей. Мы забрались под эту крышу и все время оттуда выглядывали, нам было так интересно… Помню, потом были разговоры, что слона в зоологическом саду убили, и мы из-за этого переживали. В этом доме мы и прожили до августа 1942 года.
 Навес, под которым прятались сестры Поляковы. Фото из открытых источников
Навес, под которым прятались сестры Поляковы. Фото из открытых источников
 Слониха Бетти из Ленинградского зоопарка. Фото из открытых источников
Слониха Бетти из Ленинградского зоопарка. Фото из открытых источников
 Слоновник после налета. 10 сентября 1941. Фото из открытых источников
Слоновник после налета. 10 сентября 1941. Фото из открытых источников
«Папа был сильным человеком»
Папа был физически сильным человеком, хотя никогда спортом не занимался. Но с детства он привык, что надо делать зарядку. Его отец, наш дедушка, был мельником. В семье было восемь детей. Папа был младшим. Самый старший брат был старше папы на 22 года, следующая сестра – на 17 лет. Они на мельнице обходились без посторонней помощи. Единственные, кто у них работал, это два австрийца, которые жили в отдельном доме во дворе. Наша бабушка им готовила и вообще их обслуживала. Эти австрийцы были весьма дисциплинированными. Они делали зарядку каждый день. И папа, глядя на них, тоже стал делать зарядку, втянулся, а потом поддерживал физическую форму всю жизнь.
Как-то они с другом возвращались домой из школы, и на них напали хулиганы. Мальчики стали отбиваться, один из хулиганов вытащил нож. И папа их так отдубасил, что вызвали милицию, и милиция взяла у папы расписку, что он никогда не будет применять предметы, которые могли бы усилить его удар!
Когда папа пошел в армию, из-за прекрасной физической формы его сначала отправили в школу десантников-диверсантов. Там были только мастера спорта – и он среди них. Но когда они уже окончили эту школу и их должны были распределять по фронтам, вышло постановление, что создается отделение химзащиты. А папа был биологом. Его отозвали из десантной школы и назначили начальником химзащиты подразделения на Ленинградском фронте. Мы считаем, что это спасло ему жизнь.
 Илья Поляков на фронте. Фото из архива семьи Поляковых
Илья Поляков на фронте. Фото из архива семьи Поляковых
 Илья Поляков с однополчанином. Фото из архива семьи Поляковых
Илья Поляков с однополчанином. Фото из архива семьи Поляковых
«Мама, я испугалась…»
В самом начале войны меня отдали в детский сад. Как-то раз нам велели идти в бомбоубежище, потому что начался обстрел. И еще я услышала, что в какую-то школу попала бомба. А мама работала учительницей. Я так испугалась за маму, что удрала из сада и под обстрелом побежала ее искать. Наш садик был на набережной Невы, там, где стояли военные корабли. Это было обстреливаемое место, поэтому я побежала не со стороны набережной, а со стороны Александровского сада и Адмиралтейства. И вот я бегу, и вдруг мне навстречу бежит мама. Она меня увидела, схватила, и мы спрятались под деревьями в Александровском саду, недалеко от Медного всадника. Памятник тогда был заколочен досками от обстрелов.
Мама меня так ругала… А я говорю: «Я испугалась, что в тебя бомба попала.»
«Я ребенка здесь не оставлю»
В начале блокады власти пытались вывезти из города детские сады, организовывали детские лагеря под Ленинградом, но не со стороны наступления немцев, а с другой стороны. Наш детский сад тоже вывезли в поселок Пери. Я оказалась далеко от родителей. Это было так тоскливо…
Помню, когда нам хотелось кушать, воспитательницы говорили: «Занимайтесь физкультурой, занимайтесь физкультурой». И мы там все время делали какую-то зарядку.
Иногда нас приезжали проведать родители. Как-то приехал папа с моей старшей сестрой Рэмой. В так называемый «мертвый час», когда дети должны спать. А наша спальня была на втором этаже. Как сейчас, помню: я со второго этажа выглядываю вниз, а внизу стоят папа с сестрой. И папа спрашивает, как у меня дела. А я говорю: «Нас все время заставляют заниматься физкультурой. А потом дают обед. И все взрослые по большой ложке супа получают, а мы по маленькой ложке».
Папа, когда как это услышал, сказал: «Я ребенка здесь не оставляю». И забрал меня из этого детского сада.
Блокадные будни. «Я думаю о борщике»
Для нашей семьи стало спасением, что папина часть была под Ленинградом. Одно время они стояли где-то в районе Кировского завода. Папа каждую минуту думал о семье.
А мы остались в Ленинграде: мама, я с сестрой и мамина младшая сестра Соня. К началу войны тетя Соня была беременна, а ее мужа сразу забрали в армию. И мама сказала тете Соне, что та будет жить с нами. 5 сентября тетя родила девочку. Роды были очень тяжелые, потом у тети началась дистрофия, и первый год она практически не вставала с постели.
Все заботы о ребенке, о тете Соне и о нас с сестрой легли на мамины плечи. А папа ради нас старался оторвать от себя все, что мог. Раз в неделю он приходил домой, приносил нам, во-первых, хлеба, во-вторых, всю сгущенку, которую получал. В-третьих, им давали по 100 грамм спирта и табак, он не пил и не курил, а все это менял на хлеб.
Вот с этим он приходил домой. Это само по себе было опасно: если бы его задержали с продуктами, как бы он объяснил, откуда они? Каждый раз это могло закончиться чем угодно. Но все же, знаете, в армии как-то заботились о семьях среднего и старшего комсостава. То нам дрова подкинут, пару бревен, то еще что-то. Папа как-то пришел, принес кусок мяса и говорит маме: «Учти, это старая-старая корова, мясо надо долго-долго варить». Мама варила и удивлялась, почему бульон так сильно пенится. Потом папа сказал, что это была конина. Эта конина нас тогда очень поддержала.
Был такой случай: папа приехал на машине домой и привез нам дрова, несколько поленьев. Водитель выгрузил поленья во дворе. А мы жили на втором этаже. И папа тогда единственный раз в жизни попросил нас помочь. Зашел и говорит: «Девочки, я дрова сам не смогу занести, вам придется занести их самим». Настолько он был уставший, и, видимо, изголодавшийся.
А еще была история, как к нам приехал дядя из Мурманска, муж маминой двоюродной сестры. Мы до войны были очень близки, дружили семьями.
Дядя служил в Мурманске, и как-то его отправили в командировку в Ленинград. Когда его сослуживцы узнали, что он едет в Ленинград, каждый от своего пайка отрезал для него кусочек хлеба со словами: «У тебя там родственники, передай им от нас этот хлеб». И он принес нам целый мешочек небольших кусочков хлеба. Вы понимаете, что мы тогда чувствовали, если я помню об этом до сих пор…
Как мы выжили? Считаю, что это в первую очередь заслуга нашей мамы, которая была чрезвычайно организованным человеком. Это нас спасло. Мы всегда знали: что бы ни случилось, мы всегда будем что-то есть.
Война началась летом, мы тогда снимали дачу в Токсово. С продуктами всегда было нелегко. Поэтому мама всю зиму готовилась к этой даче. Она собирала сахар, знаете, такой колотый – хрустальные куски сахара. Запасала рыбий жир. Это нас спасло в блокаду.
 Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Тогда радио работало круглосуточно. Когда не было передач, звучал метроном. Но в пять утра я всегда просыпалась к началу радиопередач. И начинала звать маму, потому что очень хотела есть. Мама просыпалась, я ей говорю: «Мама, знаешь, мне кажется, что увеличили пайку хлеба». Мама говорит: «Вот и хорошо, значит, мы сегодня будем сыты».
Но, конечно, больше я ей не давала спать. Она поднималась, и, первое, что она делала, давала нам по маленькому кусочку хлеба, чайную ложечку подсоленного рыбьего жира и на закуску маленький кусочек сахара. Это была наша «заправка» с утра. Так мы «замаривали червячка».
А потом мама начинала как можно дольше тянуть с приготовлением завтрака. У нас была буржуйка, мама ее растапливала. Я это так хорошо помню, знаете, до того, что сердце сжимается… Я всегда у нее спрашиваю: «Мама, а ты скоро будешь делать завтрак?» Мама говорит: «Скоро, скоро». Я говорю: «Так скоро или сейчас?» Мама говорит: «Скоро». И я уже знаю, что надо еще подождать…
Но все же мы знали, что будет какой-то завтрак, будет какой-то обед, будет кусочек хлеба каждый раз. И мы знали, что совсем голодными никогда не будем. А папа старался приезжать к нам каждую неделю и подкидывать, что мог.
Еще помню, как мама утром на меня смотрит, а у меня два волоска седых. Мама спрашивает: «Почему у тебя седые волосики?» А я говорю: «Потому что я думаю». Она спрашивает: «О чем же ты думаешь Томочка?» – «Думаю о борщике. Ты же мне его сваришь, когда закончится война?» – «Конечно, сварю, Томочка».
«Я смогу ему сказать, что мы сберегли его семью…»
Во время блокады папа все время старался нам привезти хоть какие-то витамины. Когда его часть стояла в лесу, он привозил нам хвою и говорил: обязательно пейте хвойный чай, чтобы не было цинги. А как-то весной он привез нам только хвою и ландыши и сказал: «Простите, больше ничего не смог привезти». И, знаете, ландыши у меня всю жизнь ассоциируются с папой. И всю жизнь это мои самые любимые цветы.
А еще с этими ландышами связана трагическая история. Моя сестра вам рассказывала, что букетик этих ландышей мама отнесла своим очень близким подругам, Марии Павловне Ивашкевич, учительнице литературы, и ее сестре Варваре Павловне, которые в блокаду жили на Аптекарском острове. Обе они были не замужем, и вся их семья состояла из трех душ – Мария Павловна, Варвара Павловна и их кот Барсик, который был для них членом семьи. Вы знаете, что в блокаду скоро не стало ни мышей, ни котов, ни собак. Но Барсик жил, и лучший кусочек они отрывали от себя и отдавали этому коту.
А Варвара Павловна была врачом. Как-то к ней пришёл больной, который уже умирал просто. И она отдала ему этого кота. Хотя этот кот значил для них очень много…
 А это другой кот – Макс. Один из нескольких ленинградских котов, переживших блокаду. Фото из открытых источников
А это другой кот – Макс. Один из нескольких ленинградских котов, переживших блокаду. Фото из открытых источников
Однажды, когда уже пришла весна, папа приехал, тетя Соня тогда уже поднималась, мы все сели обедать. Папа говорит: «Ну вот, уже весна, самое страшное время позади. Когда Абраша (Абрам, муж тети Сони) вернется с фронта, я смогу ему сказать, что мы сберегли его семью. И я с радостью верну ему и дочку, и жену. И скажу, что мы сделали все, что могли, чтобы они остались живы».
 Тетя Соня с Тамарой и Рэмой. Фото из архива семьи Поляковых
Тетя Соня с Тамарой и Рэмой. Фото из архива семьи Поляковых
 Абрам, муж тети Сони
Абрам, муж тети Сони
Но, к сожалению, вышло по-другому. Тетя стала поправляться и решила пойти работать, а дочку определить в ясли. Мама так уговаривала ее: «Соня, не надо, не отдавай. Всю зиму я бегала за молоком для Риночки под обстрелами. Чтобы ей было лучше. Пусть она дома будет. Все дома, и она дома».
Но тетя не послушала и отдала Риночку в ясли. И через две недели ребенок умер от желудочного заболевания. Это был страшный удар для всех.
Нехорошее предчувствие
В августе 1942 года мы уехали в эвакуацию в Узбекистан, потому что папа получил письмо от своей сестры Дины, которую из Крыма эвакуировали туда вместе с дочкой. У Дины было какое-то нехорошее предчувствие, что она умрет и ее маленькая дочка Муся останется совсем одна. Поэтому она просила нас приехать.
Дорога в эвакуацию была очень долгой и тяжелой. Ехали в теплушках, часто останавливались. Мама не разрешала нам ходить в столовые на станциях, кормила припасами, которые у нас были. Я потом долго не могла смотреть на рис, который она нам тогда варила. Но мама видела, как после блокадного голода люди набрасывались на еду и умирали, поэтому строго следила, чтобы мы ели понемногу.
В эвакуации тоже было непросто. Тетя Дина действительно вскоре неожиданно умерла, заразилась в командировке сыпным тифом. Мама тоже перенесла сыпной тиф, ее еле спасли. Мы все жили одной семьей, и, когда тетя Дина умерла, ее дочка Муся, конечно, осталась с нами. Мама относилась к ней точно так же, как к нам. Муся была для нас близким и родным человеком.
А еще нам пришлось делить жилье с семьей из Одессы, но в результате мы подружились, все друг другу помогали.
Рэма, моя старшая сестра, и Муся там ходили в школу, и на перемене им всегда давали что-то перекусить. Они это в школе не ели, а приносила домой, чтобы обязательно поделиться со мной. Как-то Рэма и Муся принесли из школы по пирожку с мясом, разделили на нас троих, мы это съели, и все заболели брюшным тифом.
Сначала нас лечили дома, я болела легче всех, но Рэме не становилось лучше. И нас троих повезли в больницу. До сих пор помню, как мы лежим на телеге, укрытые, день пасмурный, серый, а сверху на нас падает редкий снег. И мне было так грустно…
В больнице мама была с нами все время и буквально всех нас выходила, особенно Рэму. Мама помогала не только нам, но и другим детям, весь персонал ее очень уважал.
Вообще, где бы мама ни появлялась, вокруг нее всегда были люди. Местные жители, узбеки, ее очень уважали, часто к нам заходили. Один старый узбек иногда к нам заходил по дороге на базар. Мама его всегда чаем поила. Как-то он шел с базара и оставил у нас мешочек орехов со словами: «Мне тяжело нести их до дома, я потом у тебя заберу».
После этого его долго-долго не было. А потом пришел. Мама отдает ему и орехи. Он высыпал все орехи, пересчитал и говорит: «Ты очень честная. За все время ни один орех не пропал».
И пригласил нас к себе – маму, тетю Соню и нас, трех девочек. Он жил где-то в горах, нам было жалко обувь, и мы пошли босиком. Лето было жаркое. Идти нужно было по песку, песок был такой горячий, что мы все время бежали. Увидим островок травы – постоим и снова бежим. Он очень хорошо нас принял, накормил пловом, угостил фруктами. Домой мы уже шли, когда стало прохладно.
А в 1944 году мы вернулись в Ленинград.
 Стоят Соня и Рэма, сидят Муся, Ревекка Полякова (мама девочек) и Тамара. Андижан, 1944. Фото из архива семьи Поляковых
Стоят Соня и Рэма, сидят Муся, Ревекка Полякова (мама девочек) и Тамара. Андижан, 1944. Фото из архива семьи Поляковых
«Да он вас на руках будет носить!»
Ехали мы в Ленинград через Ташкент. Еще шла война. Ехали долго, вагоны набиты, в туалет были страшные очереди. А у мамы из ценностей еще с довоенных времен остались только часики, знаете, такие, как кирпичик – первый папин подарок. Мама очень берегла эти часы. И, пока мы ехали, она всегда бинтовала руку с часами, чтобы их кто-то не срезал. Как-то она пошла в туалет мыться и забыла там часы на полке. Вернулась на место и сразу обнаружила, что забыла. Она побежала в туалет, но там, конечно, уже было занято. Она кричит тому, кто в туалете: «Отдайте мои часы! Они лежат на полке». И мужской голос отвечает: «Не волнуйтесь, идите на место. Я вам обещаю, что принесу часы. Я знаю, где вы сидите».
Этот мужчина пришел, принес часы. И мама рассказывает ему, что, это единственная ценная вещь, которая у нее осталась, больше ничего нет. А мужчина говорит: «О чем вы говорите? Вы привезете своему мужу трех прекрасных девочек, живых и здоровых. Это – самое дорогое! Да он вас на руках будет носить!»
Победа. Как оживал Ленинград
Хорошо помню День Победы. Помню, как я тогда ужасно испугалась салюта. Я вообще была спокойным ребенком, но тут у меня, наверное, впервые в жизни была истерика, и меня долго не могли успокоить. Потом долго гуляли, все вокруг были такими счастливыми.
 Салют в Ленинграде. Фото из открытых источников
Салют в Ленинграде. Фото из открытых источников
А еще помню, как Ленинград освобождали от военного камуфляжа. Во время войны все позолоченные ленинградские украшения были закрашены серой краской, на шпиле Адмиралтейства чехол, Медный всадник закрыли деревянным коробом, внутри которого были мешки с песком. И вот, когда Ленинград очищался, я особенно запомнила, как отмывали от краски купол Исаакиевского собора. Я училась в 239-й школе, она тогда располагалась на Исаакиевской площади, в Доме со львами. Окна школы выходили на Исаакиевский собор. И мы своими глазами видели, как смывали краску с куполов собора. Это был такой праздник, когда Ленинград оживал и начинал светиться своими золотыми куполами и шпилями!
 Снятие чехла с Адмиралтейства. Фото из открытых источников
Снятие чехла с Адмиралтейства. Фото из открытых источников
Уже после войны мы приехали к папе в военный лагерь под Ленинградом. Ко мне все относились очень тепло, как к своему ребенку, ведь у многих дети были далеко. Я любила жареный хлеб, и, помню, когда я утром просыпалась в папиной комнатке, на подоконнике меня уже ждала тарелочка с жареным хлебом – подарок от поваров… Счастливые воспоминания.
 Илья Поляков с Тамарой. 1945. Фото из архива семьи Поляковых
Илья Поляков с Тамарой. 1945. Фото из архива семьи Поляковых
А наши родственники, две папины сестры с детьми, которые во время войны остались в Крыму, были расстреляны во время оккупации. Мужья их погибли на фронте…
«Знаю. Это моя жена». Любимая папина фотография
Мама была красива в молодости. Такой спокойной, неброской, даже аристократической красотой. А еще она была активной комсомолкой, и как-то ее премировали путевкой в дом отдыха в Крыму, около Ласточкиного гнезда. Мама, тогда еще студентка, поехала туда с Рэмой, которой уже было годика три.
Мама родила Рэму, когда окончила первый курс. Потому что первое, что сделали родители, когда узнали, что оба поступили в институт – пошли и оформили свой брак. Но так как паспортов у них еще не было, им поставили штамп, что они муж и жена, прямо на комсомольские билеты.
На память о крымской поездке у мамы осталась фотография: она сидит в море на камне на фоне Ласточкиного гнезда, а у нее на коленях, обняв ее, сидит Рэма. Внизу подпись «Привет из Крыма».
 Ревекка Полякова с Рэмой в Крыму. 1934. Фото из архива семьи Поляковых
Ревекка Полякова с Рэмой в Крыму. 1934. Фото из архива семьи Поляковых
Это была папина самая любимая фотография, он с ней никогда не расставался, в том числе на фронте. И вдруг эта фотография пропала. Папа страшно расстроился. Как-то он заходит к своему сослуживцу в землянку, а у того весь угол обклеен фотографиями артистов. И среди них – мамина фотография. Папа говорит: «Откуда у тебя эта фотография?» Тот отвечает: «Знаешь, никак не могу вспомнить. Откуда, из какого фильма? Посмотри, какая красивая женщина. Может быть, ты знаешь, кто это?». Папа говорит: «Знаю. Это моя жена».
Оказывается, папа положил эту фотографию как закладку в книжку и случайно сдал в библиотеку. А сослуживец тоже случайно обнаружил эту фотографию. И папа, конечно, ее забрал.
Материал подготовила Елена Янкелевич
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2