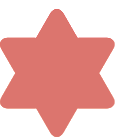22.07.2015
Воспоминания о раввине Каценеленбогене
Воспоминания о раввине Каценеленбогене
Публикуем «Семейные записки» – воспоминания Берты Давидовны Иоффе, дочери духовного раввина Петербурга-Ленинграда Давида-Тевеля Каценеленбогена (1847-1930), жены академика Владимира Ильича Иоффе (1898-1979). Это уникальный текст, ранее, насколько нам известно, не публиковавшийся. Берта Давидовна, светлой памяти, написала эти воспоминания в Хайфе в 1994 г. Текст воспоминаний любезно предоставил нам сын Берты Давидовны – Давид Иоффе.
Я пишу эти записки по просьбе моего внука Лени. Он просил написать «хоть понемногу, хоть по частям» историю нашей семьи, насколько я ее знаю, написать о моем отце, о дедушке Миле (благословенна его память) Леня сказал: «Я не хочу быть Иваном, не помнящим родства. Ни Иваном не хочу быть, и не помнящим родства – тоже».
Так он сразу задал тон написать историю семьи на фоне еврейской жизни того времени – да на каком другом фоне может быть написана история нашей семьи?
Я, конечно, не могу написать историю всей семьи, я ее не знаю. Я напишу только, как смогу, семейные записки по личным воспоминаниям. Они охватывают большой отрезок времени, почти весь XX век. Это история двух семей: семьи моего отца и моей собственной семьи после моего замужества. Центральной фигурой первой семьи был, конечно, сам отец, а во второй – деда Миля, о них и надо писать.
Отец мой Давид-Тевель Каценеленбоген происходил из очень родовитой раввинской семьи Каценеленбогенов. Папа был 28-м раввином в непрерывной цепи раввинов в этой семье, которая ведет свою родословную с середины XVI века со знаменитого ученого и мистика Иехуды Лев из Праги, известного в истории под аббревиатурой Магарал.
Фигура этого ученого раввина окружена в истории мистическим ореолом. Ему приписывалось сотворение Голема; силой вдохновения и веры он вдохнул жизнь в деревянную фигуру болвана и сделал его затем своим товарищем в занятиях Талмудом.
Семья отца происходила из небольшого городка в Германии, принадлежащего графу Каценеленбогену, откуда и пошла наша немецкая фамилия. Оттуда семья расселилась по всей Европе вместе с расширением ареала проживания евреев, двигаясь на Восток, в Польшу, Литву и Россию. Они дали миру многих представителей еврейской интеллигенции: ученых, раввинов, автором многих трудов по религиозной философии и по Талмуду. В книге д-ра Розенштейна, специально посвященной истории семьи Каценеленбоген, указываются такие деятели мировой культуры, происходящие из этой семьи, как Спиноза, Карл Маркс, Мендельсоны, М. Бубер. (Нужно учесть, что до XIX века евреи прямого участия в европейской культуре не принимали).
Отец мой родился в 1847 году в Таурогене Ковенской губернии в раввинской семье, в которой был традиционно высокий уровень талмудического образования. В семье было пять мальчиков, из которых трое впоследствии стали раввинами. Учился папа вначале у своего отца, а затем в Вильно у тамошних раввинов.
Уже с детства он выделялся незаурядными способностями. Среди его учителей был выдающийся раввин Исроель Салантер, основатель и глава этического направления в иудаизме, уже тогда предсказавший отцу большое будущее. По семейному преданию Салантер велел папе учить немецкий язык (жили на границе с Германией), сказав: «Ты будешь раввином в столице и должен знать немецкий язык». Папа немецким действительно владел, что ему в дальнейшем, когда он переехал в Петербург было большим подспорьем в общении с начальственным официальным миром. Русский язык папа знал плохо и, если должен был объясняться с начальством по-русски, записывал текст и заучивал его наизусть.
Уже в 15-летнем возрасте папа состоял в переписке со знаменитыми учеными, и его респонсы (ответы и примечания к сложным талмудическим высказываниям) печатались даже в примечаниях к некоторым изданиям Талмуда. В 20 лет он занял пост раввина в г. Вержболове, что на границе с Германией. Потом был приглашен раввином в г. Сувалки в Польше, в резиденцию великих раввинов; пост этот считался очень почетным. А в 1907 году занял пост раввина в Санкт-Петербурге.
 Раввин Давид Тевель Каценеленбоген, 1910 г., Санкт-Петербург
Раввин Давид Тевель Каценеленбоген, 1910 г., Санкт-Петербург
Отец был дважды женат: первая его жена тоже была представительницей семьи Каценеленбоген, очевидно, какая-то боковая линия. Она рано умерла от туберкулеза, наследственного в их семье, оставив ему шестерых детей.
Второй раз папа был женат на моей матери. От этого брака нас было трое: Саул, я и Ильюша. Все мы родились в Сувалках. У мамы от первого брака было двое детей, Гдаля и Миша. К тому времени, как я себя хорошо помню, старшие дети понемногу разъехались, образовав свои семьи, и в Петербурге, начиная с 1910 года, нас жило трое детей в семье – дети от второго брака.
Папа был крупным ученым раввином и выдающейся личностью. Он пользовался неизменным авторитетом в раввинских кругах как крупный ученый, был автором двух книг. Одна – талмудического содержания; другая была книгой проповедей и носила философский характер.
Занимаемый им в течение 23 лет пост раввина в Петербурге ставил его во главу раввината России, он был его официальным представителем. Так, например, он был представителем Всероссийского раввинского съезда в 1909 году, который был разрешен только при условии, что раввин Каценеленбоген будет во главе его. Все официальные хлопоты и обращения еврейских общин в Сенат и Синод, в министерства шли через Петербург, и папа был неизменным их представителем. Очень красивый и интеллигентный, с некоторым даже духовным аристократизмом во внешности, который покорял окружающих, он редко встречал отказы, и община всегда пользовалась этим в своих контактах с высоким начальством. А начальство было действительно высокое: большие русские чиновники сановного Петербурга, министры, члены Синода, генерал-губернаторы Петербурга, Финляндии и т.п.
С некоторыми из них у папы устанавливались личные отношения. Помню эпизод из его встреч с министром Маклаковым: как-то на приеме, куда папа явился с какими-то хлопотами, министр разговорился с ним на философские темы и, между прочим, сказал: «Вы должны признать, что в Библии тоже есть странные места». Тут папа, который по-русски говорил с трудом, только подготовившись, разволновался, встал (вроде даже погрозил пальцем) и сказал ему оскорбленно: «Вы не имеете право так говорить о Библии. Если есть мораль на свете – она из Библии, если есть святое у человечества – это Библия», – и направился уходить. Министр вскочил, стал его задерживать и уговаривать, что он ничего обидного не имел в виду.
После этого они стали друзьями, и каждую Пасху к сейдеру министр поздравлял его с праздником. В первый раз я подошла к телефону и не хотела звать папу – какой-то Маклаков просит к телефону. В дальнейшем это было предметом шуток в семье.
Папа был очень энергичный человек, работал с восьми утра до позднего вечера. При нем петербургская община, в которой раньше было совсем мало общественных и даже религиозных учреждений, приобрела совсем другой характер. Община расширила свои центры. Был открыт целый ряд молитвенных домов, в которых собирались по вечерам для изучения Талмуда. Были открыты школы «Талмуд-Тора» для обучения детей еврейской и русской грамоте, ремесленные училища для детей несостоятельных родителей. Получаемый диплом ремесленника давал право жительства в Петербурге.
Папа стоял во главе благотворительных учреждений в городе. При нем была открыта богадельня для неимущих стариков, открыта дешевая столовая для студентов-евреев, где за 8 копеек можно было пообедать и взять хлеб с собой домой. Студенты захватывали с собой еще соленые огурцы и горчицу, что стояли на столах.
Много и часто он хлопотал на невинно арестованных, обвиненных в шпионаже и аферах, и многих спас от тюрьмы. При нем была выстроена синагога на Преображенском кладбище. Помню, как к нам приезжал архитектор Гевирц совещаться по этому поводу, помню, как папа подбирал надписи на колонны из псалмов. Эти надписи частично сохранились до сих пор, частично разрушились от времени.
Папа, конечно, был крупным общественным деятелем в той области, которую представлял, но был он прежде всего незаурядной человеческой личностью с высокой духовной жизнью, и это больше всего покоряло окружающих. Все, что он делал, он делал во имя благородных, высоких смыслов жизни, в которые он верил, во славу Божию. Из какого-то одного основного принципа – религиозного – строилось все его отношение к миру, оно был необыкновенно целостным. Я ведь знала папу уже немолодым и считала, что он всегда был таким. Теперь я думаю, что он много работал над собой, создавая свой внутренний мир, отбрасывая все суетное.
Папа всю жизнь страдал бессонницей. Я помню, уже в старости (я спала в его комнате) он ночью просил меня достать из шкафа какую-нибудь определенную книгу. Он на минуточку заглядывал в нее, только чтобы найти тему, давал направление своей мысли, нельзя же думать о пустяках.
И при этой высокой и напряженной духовной жизни была в нем какая-то особая конкретность, ум его был особенный, не интеллигентский, народный, с особым чувством меры и реальности, жизненный ум. Теперь я понимаю, что это называется мудростью.
Талмудом он продолжал заниматься, вопреки своей занятости, всю свою жизнь. Книги свои написал в 75 лет. Был в своей области серьезным и отвлеченным теоретиком. В книге «Огалей Шем», посвященной биографиям раввинов с XVI по XX век, он назван гением (Гаоном), а оценки в этой книге очень суровые и зря не давались.
Был он из последних могикан старого раввинства и, вместе с тем, очень реальным человеком. Все, что он говорил, было всегда выходом в открытую дверь, реальным освещением событий. Может быть, поэтому его авторитет в обществе был столь непререкаем. Он редко выступал на заседаниях, но, когда в конце он решал спорные вопросы, то его мнение было решающим. «Как раввин решил, так и будет». Иногда его мнение было неожиданным, он решал, исходя из талмудического кодекса, казалось, он что-то недооценивал, но он всегда фатально оказывался прав.
Я думаю, папа в молодости был самолюбив: он не мог не чувствовать силу своей личности и недооценивать себя, но с годами он научился переводить интересы своей личности к большому источнику, и самолюбие и гордость преобразились в раввинское достоинство, за отношением к которому он очень следил. Был он авторитетом и примером, ибо жил всегда с высокой степенью напряженности, особенно моральной. Был ли папа оптимистом - не знаю, но всегда был полон веры и надежды на Бога, которая его поддерживала в наше тяжелое время. Но вообще был он во много скрытен, не любил пускаться в философские споры, хотя его книги об этом. Его жизненному опыту мы не учились, только поведению.
А учиться было чему. Начиная с середины XIX века еврейская жизнь вошла в полосу кризисов и переломов. Еврейская жизнь в черте, в Польше, в Литве, на Украине – а это были многомиллионные массы – протекала очень тяжело, прежде всего в экономическом плане. Жили в большой скученности, источники заработков были очень ограниченные: мелкая торговля, ремесленничество. Основная масса ила не просто в бедности, жила в горькой нужде, в голоде, а деваться было некуда – черта оседлости. Общество было во всех смыслах закрытое. Духовная жизнь носила строго религиозный характер и продолжалась в средневековых традициях. При этом еврейская грамотность, особенно среди мальчиков, была поголовной. В каждом еврейском местечке был хедер, хотя и учитель, и ученики вели полуголодное существование. Были и следующие ступени образования – ешивы, где мужская молодежь занималась Талмудом, как жизненным учением. Никакой профессии ешивы не давали. Небольшая часть молодежи из ешивы становилась в дальнейшем руководителями религиозной жизни, сдав для этого соответствующий экзамен и получив смиху. Наиболее талантливые становились раввинами в еврейских общинах, другие становились шойхетами и т.п. Остальные входили в жизнь черты, это был узкий и тесный мир, места в жизни в сущности не было.
А на дворе был XIX век. Европа прошла уже через все свои революции, оставив далеко позади Средневековье. Основы жизни изменились, как в экономике и социальной жизни, так и в духовной сфере. Общество становилось все более открытым. И, конечно, это не могло не отозваться на еврейской жизни, должно было вызвать какие-то сдвиги.
Общество стало расслаиваться на консервативные круги, жившие в старом русле, и на молодежь, потянувшуюся к светской культуре. Молодежь стала изучать русский язык, потянулась к общему образованию, искала выхода из черты. Более состоятельные круги стали отдавать детей в гимназии, поскольку это допускала процентная норма, посылать заграницу, давать систематическое образование. Это был путь к профессионализму.
Путь молодежи из менее обеспеченных кругов к общему образованию был очень труден, особенно при противодействии старшего религиозного поколения. Была очень узкая щелочка – сдавать экстерном на аттестат зрелости, что давало шансы попасть в высшее или среднее учебное заведение, уехать из местечка. Дорога эта была очень трудна. Путем полуголодного существования, невероятных усилий и жертв перебирались в большие города, становились фармацевтами, зубными врачами, а при удаче и врачами, инженерами, любыми специалистами.
На самой еврейской улице тоже произошли перемены, стала развиваться светская литература: стали выходить газеты и журналы разных направлений на идиш, на древнееврейском (как тогда говорили) и даже на русском языке. Появились профессиональные писатели и журналисты, которые очень живо откликались на все животрепещущие вопросы еврейской жизни. В связи с изменившейся жизнью обострились и чисто национальные вопросы. Зародилось сионистское движение, звавшее молодежь на борьбу за национальное возрождение, за создание национального очага в далекой Палестине.
Черта оседлости, гетто стали распадаться.
Папа принадлежал к самому консервативному крылу, принадлежал к верхушке старой религиозной аристократии, не отзывался ни на какие новые веяния. Он безусловно видел сложные тупики, в которые зашла еврейская жизнь, но жил старыми представлениями. По характеру он был очень толерантен, обладал чувством меры. В религиозных обрядовых вопросах, которые он по роду своей деятельности он должен был разрешать, он был очень либерален, чем даже вызывал к себе настороженность в среде хасидов. Но когда дело касалось основ, он был достаточно непреклонен. Может быть, он понимал и осознавал тогда кризисные моменты еврейской жизни и культурыбольше, чем он нам это показывал, но мы этого не чувствовали.
К папе часто обращались как к судье, ведь существовал в еврейской жизни свой судебный кодекс Дин Тора – закон Торы, по которому живут и предлагают отчасти жить в Израиле религиозные круги. Люди приходили к раввину судиться, добровольно брали на себя это законодательство, разработанное талмудическое право. Это было особенно важно для тех членов общины, часть дел которых могла быть не совсем легальной и государственному суду не могла подлежать. Иногда это было сложные семейные имущественные дела, иногда чисто коммерческие. Бывали это запутанные дела, слушались они с выступлением сторон, свидетелями в течение нескольких дней подряд. Папа всех выслушивал, часто откладывал решение «для обдумывания» и аргументированно постановлял. И я не помню, чтобы люди уходили от него недовольными.
Люди часто приходили к нему советоваться по своим мирским делам, и он, человек далекий от повседневной жизни, давал мудрые, подходящие к жизни советы. Если бы это была хасидская среда, то он, конечно, слыл бы чудотворцем, много было у него поклонников и обожателей, хотя он не любил этого и отстранялся.
Расскажу теперь о доме, в котором мы росли. В Петербург еще приехала большая семья, но понемногу старшее поколение стало разъезжаться, заводить собственные семьи. Воспитание у нас, конечно, было строго традиционное. Нас всех, девочек и мальчиков, учили еврейским наукам. Отец очень следил за обучением девочек, они должны в дальнейшем создавать семью и воспитывать детей. Мальчики учили еще Талмуд, их обучение было более специальным. Это было домашнее образование на высоком уровне -детей учили даже иностранным языкам– но к жизни совершенно неприспособленное. Девочек готовили выйти замуж и создавать семью, а вот мальчики входили в жизнь совершенно неприспособленными, без всякой специальности.
Так, старшие братья Лейба и Герц всю жизнь мыкались в поисках заработка, чтобы прокормить семью, и во многом материально зависели от отца, который был, благодаря своему высокому положению, материально хорошо обеспечен. Да и работу всякую было трудно найти, в русских городах у них не было права на жительство, право отца не распространялось на сыновей старше 18 лет. Вставал еще вопрос о работе по субботам, возможности были очень ограничены. Все это было очень типично для многих еврейских семей, еще один штрих в кризисной экономике еврейской жизни.
Дом папин был открытый, как оно и полагалось раввинскому дому. Всегда полно народу, двери на лестницу не закрывались, бывали и кражи пальто с вешалки. Всегда полно общественных интересов и забот. Были и интересы широкого плана – раввинские съезды, всякие хлопоты в правительственных кругах, связанные с еврейским законодательством, снабжение солдат пасхальной пищей и т.п.
Вместе с тем Петербург был богатый город, особенно на фоне ужасающей нищеты черты оседлости. И не было дня, что оттуда не приезжали ходоки за помощью по общественным или своим маленьким нуждам. Если это были представители ешивы или даже просто общины, они приезжали по общественным хлопотам, иногда судебное дело, иногда хлопоты в Сенате, министерстве, государственных учреждениях. Петербургский раввин был общий болельщик, да и связи такого характера были только в столице. Это бывали очень почтенные пожилые люди, полные достоинства представители провинциального раввинства. Их сразу устраивали на ночлег (права жительства у них не было даже на сутки, но существовала договоренность с урядником и городовым, и за три рубля их ночевка «сходила с рук»). Затем папа связывал их с адвокатом, имевшим связи в «высоких кругах», и их дела улаживались.
Но чаще всего приезжали из провинции в Петербург за денежной помощью для ешивы или другого общественного дела. И папа по списку начинал собирать для них деньги. Звонил по телефону, а если нужны были большие суммы, ездил домой ко всяким богачам, купцам, промышленникам.
Был он непререкаемым авторитетом, сам назначал суммы и не знал отказа, и посланец уезжал удовлетворенный. И так до следующего посланца. Их было много, нужда была большая, ездили они чередой, и эта благотворительность составляла серьезную папину работу, отнимая у него много сил.
Но вот также часто появлялся бедный, плохо одетый еврей в калошах, с зонтиком и узелком в руке, жена не отпускала его без узелка (однажды в нем была маленькая перина - совсем шолом-алейхемовский герой), он приезжал по своей нужде. Такой вот перепуганный, говорящий в столице только на идиш, еврей как-то добирался до «ребе». Он или погорелец, или нужно дочку замуж выдавать, а иногда устраиваться в больницу. Папы дома нет или он занят. Мы с Ильюшей сразу принимали его под свою опеку. Прежде всего кормили (стол у нас в столовой стоял «с креденцом», как в Польше называли лишний прибор), выслушивали его историю. Чаще всего ему нужны деньги, пару сот рублей, не столь уж большая, но в провинции недосягаемая сумма. Есть рекомендательное письмо от раввина. Нам его ужасно жалко – это всегда деликатный и несчастный человек, вековечный неудачник. Как-то, зная папу, стараемся подать его в лучшем виде. Папин шамес (служка, постоянно присутствующий при папе, что-то вроде лакея, обычно очень колоритная фигура), тоже его жалеет, берет к себе ночевать. Папа сам необыкновенной доброты человек, его звали «сплав доброты» (есть такое выражение, масаг тов), никому не мог отказать. Без помощи и какого-нибудь существенного утешения от него никто не уходил. Что-то как-то устраивалось для этого человека. И для следующего.
Вот в такой обстановке общественных проблем и интересов, помощи людям мы и росли. Какая-то гуманность и доброта, никому нельзя отказать, что-то нужно сделать, помочь в беде, всех жалко. У нас с Ильюшей была в возрасте 9-10 лет даже заведена особая книжечка с надписью «даагот» – заботы. Мы туда записывали тех, кого особенно жалели, их адреса, напоминали о них папе. При случае он давал какие-то деньги, и мы вдвоем бегали на почту, отсылали. Или сообщали, что подошла очередь на место в больницу, куда папе удалось записать его. Или сообщали о месте в ремесленную школу или о месте на работу для сына. Папин секретарь занимался более ответственными делами.
Я уже упомянула, что в Петербург в 1907 году нас приехала большая семья, но понемногу она растаяла. Мы оставались трое детей младшего поколения: Саул, Ильюша и я.
Саул тоже еще многие годы не жил с нами, папа отсылал его в провинцию, в ешиву, и там он получал воспитание и образование. Когда в 1914 году Литва стала прифронтовой полосой, он вернулся в Петербург, тогда уже Петроград. Юноша был очень способный, пожалуй, самый способный в семье, доброты необычайной, но с очень неустойчивым, просто необузданным характером. Окружающие его очень баловали за способности. Из детей он был самый красивый и яркий, какой-то был в нем шарм. В конце концов его очень избаловали, он безудержно делал, что хотел в эту минуту, и я не знаю, как сложилась бы его жизнь, если бы она не кончилась так трагически.
В начале войны 1914 года, приехав из провинции, он стал учиться светским наукам. Сдал на аттестат зрелости и уже после Революции поступил на юридический факультет, который окончил в 1924 году. Работал сначала при университете на кафедре римского права, кафедру закрыли, он стал работать юрисконсультом. Занялся общественными делами при синагоге, он был очень религиозен. В 1938 году он в связи с этими общественными делами, а, может быть, просто так, был сметен всеобщим террором и погиб в застенках КГБ.
Так что росли мы в Петербурге двое в семье: я и Ильюша. Об Ильюше я расскажу подробно, мы очень дружили, и это моя личная жизнь.
Рос Ильюша в очень странной обстановке, в раввинской семье взрослых. Никаких товарищей, никакого детского коллектива не было, я была его единственной подругой. Я была старше его, сильнее, я ходила в гимназию, мои подруги были отчасти его подругами. Кроме того, он дружил с папой. Он был самый младший в семье, родился, когда отцу шел шестой десяток. Папа, в сущности, мог быть его дедом.
Был он худенький, бледный мальчик, очень тихий и спокойный. Рос он при папе, они очень дружили и расставались. Совсем еще маленьким он провожал папу в синагогу, ездил с ним по всяким делам, вплоть до того, что присутствовал на небольших заседаниях, которые имели место у нас дома или в маленькой синагоге. Ильюша сидел рядом с папой, часами терпеливо выслушивал все дискуссии, был в курсе всех папиных дел.
Маркон, общественный деятель и наш семейный друг, человек очень наблюдательный, со смехом рассказывал: «Ребе подают чай (на заседаниях обносили чаем с лимоном). Ильюша сидит рядом, складывает большой и указательный пальчик, образуется щелочка, он кладет ручку на стол рядом с папой. Это значит – оставь мне столечко чая. Ребе ему оставляет».
Трудно этому поверить, но я это помню. Этого ребенка все папины друзья любили, в том числе Маркон в нем души не чаял всю свою жизнь, задаривали шоколадом, подарками. Он был очень сообразительный, при этом тихий, очень тактичный, очень остроумный.
Помню, папа несколько раз в год ездил принимать присягу у солдат. Поездка была далекой, интересной, ездили на Охту на извозчике через весь город. Конечно, Ильюша в возрасте 4-5 лет едет с папой. И говорит папе: «Папа, тебе выгодно брать меня с собой. Тебе одному извозчик стоит рубль двадцать, а на двоих выходит по 60 копеек». Это тогда рассказывали как хохму.
Когда я была в младших классах, он каждый день приходил с няней меня встречать после уроков, его знала даже начальница гимназии. Он всем был мил.
Позже, в пять лет, он стал заниматься вместе со мной еврейскими предметами у домашнего учителя, причем, хотя и был гораздо младше меня, скоро обогнал меня в знании языка, всегда занимался лучше меня. Позже, лет с восьми, ему еще взяли учителя по Талмуду, приехал специально ребе из провинции, он жил у нас. Занимался он вместе с еще одним мальчиком, старше его, из одной религиозной семьи часов по 4-6, в два приема. Чем становился старше, тем больше занимался.
Только после Революции, кода ему уже было лет 14-15, он начал заниматься посторонними светскими предметами, сдавал на аттестат зрелости. В 1923 году ему было 18 лет, он поступил в университет на математический факультет. Скоро его оттуда «вычистили», как сына бывшего служителя культа. Тогда в 1924 оду он уехал в Берлин, учился там в раввинском семинаре и одновременно на восточном факультете университета. Окончив его, он в 1932 году, уже женившись, переехал вместе с женой Люсей в Палестину.
Но это позже. Юность его прошла в тех же домашних семейных рамках, в дружбе с папой и со мной, в занятиях, отчасти в знакомстве с русской литературой. Оставался он таким же спокойным и милым, скорее веселым, очень остроумным, очень мягким. Папу мы все любили, он был кумиром и недосягаемым идеалом для всех детей, дом весь жил его интересами и примером. Но Ильюша любил его иступленно, папа был его главным интересом в жизни, был его Учителем с большой буквы. Он, единственный из детей, глубоко занимался Талмудом, путь его в жизни мог быть только по папиной дороге, он к этому выбору относился очень серьезно. Он был религиозен, но также сильны были в нем национальные настроения и чаяния, как-то более сознательно, чем у меня тогда.
Помню в 1914 году к нам пришли прощаться какие-то знакомые, уезжавшие жить и работать в Палестину. Я застала Ильюшу, ему тогда было 9 лет, спрятавшегося в ванную комнату, в слезах: «Когда я туда попаду, буду жить только на Святой земле».
Когда его выставили из университета, он сказал папе (а ведь он был совсем молод, но, как видно, достаточно умен и серьезен): «Папа, если ты хочешь, чтобы я остался в твоем русле, я должен уехать из России. Здесь еврейству нет будущего. Я должен уехать для тебя больше, чем для себя». И уехал. Папе было 75 лет, расставание было подвигом для обоих, но они хорошо понимали положение.
В Берлине Ильюша жил очень тяжело, он много более, тяжело работал. Денег было мало – частично высылал папа, частично помогал уехавший в свое время в Америку сводный брат Гдаля. К тому времени он уже был врачом, имел свою клинику и поддерживал Ильюшу и вообще семью. Ильюша и сам давал уроки.
Раввинский семинар, в котором он учился, был учебным заведением нового типа. Юноши получали там традиционное талмудическое образование, как в ешиве, и наряду с этим они учились в университете на восточном факультете. В Германии была тогда сильная новейшая научная школа изучения иудаизма, Библии, научная библейская критика, изучение параллельных восточных источников. Семинар готовил раввинов новой фармации, но строго религиозной школы.
Окончив семинар в университете, Ильюша не захотел быть раввином, хотя ему предлагали пост раввина в Гельсингфорсе. В годы своей учебы Ильюша стал активным членом сионистской религиозной организации и после тяжелой борьбы с фашистской властью, тогда уже не выпускавшей евреев из Германии, он уехал в 1932 году, как мечтал, в Палестину.
Здесь его ждала тяжелая, полная лишений жизнь. Сначала, после долгой безработицы, он начал работать учителем, потом директором педагогического училища, создавал и строил страну. После образования государства Израиль он был заместителем министра просвещения и ведал всем средним образованием в стране, оставаясь директором педучилища. Он никогда ни к одной политической партии не принадлежал и потому его общественная роль была несколько ограниченной, хотя он пользовался большим уважением и был видным работником в области просвещения.
Я увиделась с ним после того, как мы расстались в 1924 году, только через 42 года, когда он приехал с тетей Люсей навестить нас в 1966 году в Ленинград. Тогда восстановилась связь между нами, и она была реальным толчком к нашим мечтам о переезде в Израиль.
В 1989 году, когда уже без деда Мили, с которым он очень подружился всвоей кратковременный приезд в Ленинград и с которым был очень близок по духу, я с семьей переехала в Израиль, то застала дядю Ильюшу совсем больным, после инсульта. Скоро он скончался. Мы как-то за эти немногие месяцы, несмотря на 65 лет перерыва, были все-таки близки друг к другу, скорее чувствами и воспоминаниями, чем внешне. Я рассталась с юношей, застала больного умирающего старика, напоминавшего скорее папу. Лицом они были похожи. Люся, его жена, с которой мы были близки по интенсивной переписке после их визита к нам в 1966 году, умерла за полгода до него. С его дочерями и их семьями я подружилась, и они рассказывали мне о нем и его жизни. Они представители израильской религиозной интеллигенции высокого социального уровня, очень доброжелательные, очень старались нам помочь в устройстве и приняли нас как близких и долгожданных. Они говорили мне, что в их семье мы были какой-то легендой, людьми, живущими в России, как марраны жили когда-то в Испании, постоянно стремящимися в Израиль.
Жизнь Ильюши в Палестине была трудной, он был принципиальным увлеченным работником, но жизнь тогда была очень бедной, заработки были плохие, семья большая, пять дочерей, жили материально тяжело, вся семья в одной комнате. До 75 лет он работал, жил в Иерусалиме, затем переехал в Рамат-Ган, где жили дети. Продолжал еще несколько лет консультировать, работал во всяких комиссиях, приезжая в Иерусалим.
Но что самое для меня поразительное – в представлении и изображении детей это был совсем другой человек, чем я его знала в молодости. Он был тогда мягкий, открытый, довольно веселый юноша, любил людей, разговорчивый, далеко не борец. А образ того Ильюши, который создавался по словам детей, являл собой молчаливого сдержанного человека, очень сосредоточенного, скорей сурового. Он пользовался большим авторитетом в обществе, был очень интеллигентен и образован, но держал всех всегда на расстоянии, имел мало друзей, а ученики боялись его, как огня.
Муж одной из дочерей рассказал мне, что, когда в свое время его друзья узнали, что он дружит с дочерью Ильюши и бывает у них в доме, не поверили. «И ты решаешься туда заходить? И он с тобой разговаривает? О-го-го!».
И это тот мягкий, нерешительный юноша, которого дома дразнили «пантофельман» (подкаблучник) по отношению ко мне. Он не просто изменился – это был другой человек. Думаю, он проделал сложный внутренний путь. Он совсем не был подготовлен к той жизни, в которую окунулся, когда приехал в Берлин. Отца он продолжал бесконечно любить, это была не любовь, это был добровольный культ. Дети его считали, что отец Ильюшу подавил, не давал ему расправиться всю дальнейшую жизнь. Уехать он решил, чтобы отдать свою жизнь на службу папиным идеалам и принципам, они стали его идеалами и принципами. Все это было сознательно, он вообще был умный человек, вероятно, самый умный из детей, жил очень рационально.
Как это ни звучит парадоксально, дом наш его к этому пути не подготовил, не воспитал. Росли мы в обстановке, совсем не располагающей ни к настоящему труду, ни к сосредоточенности. Дома всегда было полно народу, жили чужими интересами, и на это уходили дни. Нас любили, мы получали гуманное и, может быть, даже высоко моральное воспитание, в основном нас воспитывала личность отца, но по-настоящему никто не следил за нашими занятиями, за тем, как мы готовились к жизни, да мы и не готовились. А приехав в Берлин, Ильюша в тяжелых материальных условиях должен был вторично сдавать на аттестат зрелости на немецком языке, с латынью и греческим учиться в семинарии. Это были ежедневные серьезные в течение многих лет занятия Талмудом, затем последовал университет, восточное отделение с изучением восточных и европейских языков. Жизнь была тяжелая и очень трудовая. Для того, чтобы справиться со всем, надо было перевоспитаться. И он взял себя в руки, понемногу переделал и создал себя для этой цели. Стал сосредоточенным и сдержанным, целиком ушедшим на выполнение своих задач, далеким от всяких отвлечений и развлечений. Его жена мне рассказывала, что, когда она с ним познакомилась в эти годы, ей казалось, что Ильюша – прообраз князя Мышкина из «Идиота» Достоевского, человека не от мира сего, живущего одними моральными задачами, полного любви к людям, одновременно очень мягкого и внутренне очень волевого.
Кроме учебной работы Ильюша в Берлине много занимался сионистской деятельностью. В религиозном сионизме он видел верность традициям и тот новый путь, в котором будущее народа. Это была вторая задача в жизни. Он, единственный из папиных детей, сознательно построил свою жизнь, посвятив ее папиным идеалам в их дальнейшем развитии. И когда он переехал потом с большими трудностями и хитростями из гитлеровской Германии в Палестину, его борьба за выполнение этих задач продолжалась и делала его жизнь такой напряженной и суровой. Он был умным и способным человеком и занял в израильском обществе подобающее место. Мне потом говорили, что он и семья его, все четыре дочери (еще одна дочь умерла от острой инфекции), были известны в Израиле как достойные личности.
Я, к несчастью, Ильюшу уже почти не застала. Его дети передали мне потом пакет со всеми моими письмами, что я ему писала, кода он уехал из дома, пока возможна была связь. Он их перевез даже из Германии. Это была трогательная юношеская переписка, полная высоких стремлений и идеалов. Мы были очень близки в общечеловеческом плане. Папа не был доволен, что Ильюша собирался переехать в Палестину. По окончании семинара Ильюше предлагали пост раввина в Гельсингфорсе. Это папу очень устраивало, Гельсингфорсблизок к Ленинграду, и была надежда на встречу, но Ильюша рассудил иначе.
К сионизму в доме у нас было сложное отношение. В полном согласии с большинством консервативного раввинства папа не только не поддерживал сионизм, но был в принципе против него. Что он думал позже, особенно после Революции, когда старая еврейская жизнь совсем распалась, я не знаю, он об этом никогда не говорил, хотя мы были близки. Но, насколько я помню, на все разговоры о сионизме в доме было наложено табу, никто из детей в сионистском движении не участвовал. Вообще, когда я стала что-то понимать, старшее поколение детей уже ушло из дому, но так было при мне.
Может быть, я что-то о старших не знаю. Воспитание их было строго традиционным, люди они были очень интеллигентные, а жизнь их была тяжелой, материально совсем неустроенной. Мама, гораздо более практичный и современный человек, своих двух детей отослала в Америку в возрасте 16-18 лет, где они после тяжелой жизненной борьбы выбились в люди и потом даже помогали семье, особенно Ильюше, который вскоре был отрезан от папы Железным занавесом.
Я по настоянию мамы получила систематическое светское образование, училась и окончила гимназию, только в субботу я по ходатайству папы была от занятий освобождена. Конечно, я получила строго еврейское воспитание, оно и создало меня, но в детстве и даже юности я очень интересовалась школой, много читала по-русски, это были мои основные интересы. Подспудно, конечно, мое еврейство меня наполняло.
Помню, только я выучилась грамоте по вывескам в 5-6 лет, я стала очень усердно просматривать газеты, приходившие в дом. Взрослые удивлялись, а я искала там слово «еврей». Оно встречалось там довольно часто, особенно в сокращении с точкой. Я была довольна и даже горда, трудно понять почему. Какова же была моя обида, когда я через какое-то долгое время поняла, что сокращение «евр.» от слова «европейское». Я перестала просматривать газеты, мне уже было неинтересно.
Помню также, как во время процесса Бейлиса, когда мне уже было 11 лет, я вмазала по физиономии по какому-то внешнему поводу моей соученице, дочери профессора Павлова, патологоанатома, выступавшего на процессе со стороны обвинения. Девочка плакала. Классная дама, разбиравшая этот инцидент, не добилась от меня ни слова. Больше всего ее возмущало, что я злобно молчала и не плакала. Я была в «своем праве».
Еврейским предметам я, конечно, училась много. У нас с Ильюшей, хотя я была на 2,5 года старше его, был один постоянный учитель еврейского языка, Библии, истории литературы и еврейской истории. Учитель у нас был с 7 до 15 лет, два раза в неделю. Ильюша учился гораздо лучше меня, я уроки готовила плохо, все это видно и сейчас по моему знанию языка. Я учила пророков, восторгалась ими, учила историю, это была постоянная боль, ибо что такое еврейская история, как не сплошной мартиролог; но непосредственные интересы в детстве лежали в русской школе, в русской литературе, это был сильный магнит. Это было, наверное, типично. Если этому ничего не противостоит, так начинается ассимиляция. Все национальный настрой я осознала позже, уже в молодости.
Тут подошла Первая мировая война, еврейская жизнь стала меняться. В жизнь, и так тяжелую, вошла тревога. Вся черта оседлости была расположена на границе с Германией. С началом войны евреи поспешно и безжалостно по указу главнокомандующего Николая Николаевича были выселены из пограничных районов по подозрению в шпионаже. Волны беженцев докатились даже до столицы. Помню, как временами у нас в большой папиной приемной на полу расстилались постели, и жили беженцы, покуда они куда-то не рассасывались.
Папе война принесла свои заботы. Он хлопотал и устраивал беженцев, голодных и холодных, многие из них были из состоятельных и интеллигентных семей, бежавших часто в одном платье, устройство их было особенно деликатным и тяжелым. Хлопотал о всякой помощи солдатам-евреям, особенно раненым, снабжал солдат на Пасху мацой, день и ночь у нас толпились люди, всякие комиссии, общественные деятели, дом был, как штаб. Хлопотал папа об освобождении раввинов от воинской повинности, все священнослужители других религий были освобождены. Добился этого, но хлопот было много.
Вместе с этими заботами заметно стал изменяться фон жизни в Петербурге. Жизнь стала какой-то лихорадочной, смутной, чувствовались тревога и неопределенность. На фронтах были неудачи, в армии – развал. Появилось много спекулянтов, нажившихся на поставках в армию, деньги стали терять ценность, усилился антисемитизм. Экономика страны разваливалась, начались голодные бунты. Это уже были предвестники Революции. Пришла и она сама.
Февральскую революцию евреи встретили, конечно, с восторгом, и стар и млад. Все были опьянены общей свободой, а особенно еврейским равноправием, идеями национального самоопределения. Папа даже организовал свою религиозно-консервативную партию для выборов в Учредительное собрание – Нецах Исроэль (Вечный Израиль) – и был ее председателем. Все чувствовали как разваливается старая еврейская жизнь, и социальная, и культурная, из рук уходит влияние на нее, и кругом остается пустота.
В Петербург после отмены черты оседлости переехало много евреев, и характер общины совсем изменился. Петербургские купцы, промышленники, петербургская дипломированная интеллигенция, адвокаты, врачи, инженеры, потерявшие свое положение, или эмигрировали или просто бежали. Приехавшие же провинциальные евреи были в каком-то смысле даже близки папе, но той старой форме еврейской жизни, которую они принесли с собой, уже не было места. Продолжала существовать синагога, вокруг нее группировалось старшее поколение, изучавшее Талмуд, но старая еврейская жизнь была разрушена во всех смыслах: социальном, бытовом и культурном. Папа видел все это и последние годы своей жизни был в тяжелом душевном состоянии. Революция никакого будущего для евреев России – а сюда входила и Польша, и Литва, все еврейские центры – не дала, она боролась с этим еврейским миром, она стремилась только к полной ассимиляции. Молодежь совсем отходила от еврейства. Частично примкнув к Революции, она вступала в партию, не только находилась в оппозиции к старому укладу еврейской жизни, но и вступала в борьбу с ним. Образовалась Евсекция, всячески ратовавшая за ассимиляцию и за уничтожение еврейских ценностей. Боролась она и персонально с еврейской интеллигенцией, принесла много бед своему народу, активно участвуя в ее уничтожении. Основная же масса молодежи, опьяненная свободой и снятием преград, отделявших евреев от других народов, совсем отреклась от своей культуры, сливаясь бытом и интересами с русской жизнью. Волна ассимиляции захлестнула еврейскую улицу.
Вместе с тем была и другая молодежь, такая, для которой национальные ценности продолжали сохранять свой острый интерес. Это была национальная интеллигенция, переехавшая из провинции в Ленинград. Интересы их носили светский характер и были связаны с сионизмом. Большинство этих молодых людей, приехав, поступили в вузы и приобщились к европейской культуре, но они нашли в старом Петербурге также богатую национальную жизнь, в которую с энтузиазмом окунулись.
Петербург был богат еврейскими культурными учреждениями, музея, он был центром многих просветительских обществ. В течение первых лет Революции, когда в Ленинград наехала образованная в еврейском смысле молодежь, эта национальная культурная жизнь даже расширилась, приобрела еще более организованный характер.
В старом Петербурге уже с самого начала века появился среди еврейской интеллигенции целый ряд общественных организаций, занимавшихся вопросами национальной светской культуры. Это были прежде всего Общество просвещения евреев (ОПЕ) и Общество любителей еврейского языка. Члены обществ занимались изучением языка (как тогда говорили, древнееврейского) и литературы, пропагандировали советскую литературу, организовывали литературные собрания и ученые заседания.
Выступали на них историки и публицисты, писатели, поэты и журналисты. Была собрана богатая библиотека, печатались и издавались книги. Усиленно занимались вопросами этнографии, существовал богатый этнографический музей, который организовывал знаменитые экспедиции Ан-ского в черту оседлости, собравшие неоценимый фольклорный материал. Было Общество еврейской музыки, тоже организовавшее экспедиции для сбора народной музыки.
В таком научной центре, каким был Петербург, не могла не существовать и современная еврейская наука. При университете было отделение семитологии, на котором преподавали крупные специалисты. Еврейским отделением ведали ученые с мировым именем: Коковцев, Хвольсон, чьи лекции привлекали многих слушателей. В Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки был собран богатейший рукописный материал, его разрабатывали еврейские ученые: Гаркави, Магид, Маркон. Издавались еврейские журналы и газеты на идиш, еврейском и даже русском языках. Была издана Еврейская энциклопедия высокого класса на русском языке. Было создано одно, совершенно для России уникальное, высшее учебное заведение – Академия высших еврейских знаний, которой руководил барон Гинцбург, известный ученый-семитолог и меценат.
В провинции существовало много еврейской молодежи, высоко образованной в еврейском смысле, знавшей глубоко и разносторонне язык, занимавшейся еврейской литературой и историей. Многие из них сами были литераторами. Мечтали они, конечно, о высшем образовании, рвались из провинции в научные центры. Но при существовавших законах правожительства и процентной норме в вузы это было совершенно недоступно. И вот тогда барон Гинцбург открыл в 1908 году в Петербурге Академию высших еврейских знаний, куда он набрал по конкурсу молодых способных еврейских юношей, уже самоучкой подготовившихся к научным занятиям, и предложил им заняться еврейской наукой по западноевропейским образцам.
Академия была на высоком научном уровне, к преподаванию были привлечены серьезные научные силы. Правожительства барон студентам, конечно, предложить не мог, были они записаны лакеями у богатых евреев, ремесленниками в артелях и т.п. Жили тяжело, кормились частными уроками, питались в дешевой столовой, но «грызли гранит науки». Их этой Академии, просуществовавшей не очень долго, вышло много представителей интеллигенции, игравшей потом заметную роль в еврейской жизни. В частности будущий президент Израиля Шазар (Рубашев). Шазар выпустил позже книгу воспоминаний, где описывает, кстати, посещение Академии моим отцом. Отец был лично дружен с бароном Гинцбургом.
Всего не охватишь, но Петербург был ко времени начала Революции большим еврейским культурным центром и продолжал оставаться им до начала 1930-х гг., когда все было разрушено и раздавлено.
Та еврейская молодежь, которая прибыла после Революции в Петербург и продолжала интересоваться еврейской культурой и наукой, внесла живую и активную струю в еврейскую жизнь. Нужно учесть, что в начале Революции и до 1927 года с веянием свободы был в обществе расцвет и подъем всяких подъем всяких популярных лекций, философских собраний, открытых литературных и прочих дискуссий. Открылся и Еврейский университет, который скоро стал центром национально настроенной молодежи. Там велись систематические занятия по всяким гуманитарным предметам: еврейскому языку, истории, литературе, юриспруденции, экономике и т.п. Читали лекции университетские профессора всяких специальностей, проводились углубленные семинарские занятия по Библии, Талмуду – это уже специально еврейскими учеными. Часто бывали и публичные открытые лекции, концерты, собравшие полные аудитории. Собирались кружки молодых поэтов, писателей, читавших свои произведения. Спорили и дискутировали.
Первые годы после Революции семья наша, несмотря на гражданскую войну, совершенно расстроенную хозяйственную жизнь и голод, жила относительно спокойно. Папу, хотя уже началась борьба с религией, не трогали, и он продолжал жить по-старому, руководил своей общиной. Жили мы всей семьей в одном доме на Лермонтовском. Там же одним этажом выше жил дядя Герц с тетей Ниной и двумя девочками – Пиной и Белой. На дворе жил дядя Саул с тетей Аней и тремя девочками – Саррочкой, Хавой и Мирой. Все это носило патриархальный характер и вполне соответствовало духу семьи.
Пожалуй, в эти годы несколько лет после отъезда Ильюши, семья еще доживала свои совместные с папой годы, шла в его орбите. Старшие дети по несколько раз в день заходили к папе послушать «что слышно», как папа, и какая погода в доме. В субботу и в праздники все, конечно, приходили к трапезам к папе.
Малыши, все пять девочек, тоже околачивались в этом доме и чувствовали себя там особенно уютно. Хавочка, например, очень тихая девочка, могла часами сидеть на скамеечке рядом с креслом деда и тихонечко играть с куклой. Ее было не слышно и не видно, но это было ее любимое место, а дедушка, занятый работой над своей книгой, времена поглядывал и проверял – тут ли она. Ему тоже было уютно, если этот тихий ребенок был рядом.
Но по-настоящему впитала атмосферу дома и в какой-то степени осталась ей верна старшая внучка, теперь уже ушедшая из жизни Пина. Все, что было положительного в этих Каценеленбогенах, их интеллигентность и глубокая гуманность, повышенные духовные интересы и наряду с этим их разбросанность, неумение и даже нежелание напряженного, целеустремленного труда – все это было сильно в ней и определило во многом ее жизнь. Из всех детей третьего поколения она была наиболее значительной, умной и обаятельной; весь семейный шарм, стиль жизни сосредоточился в ней. Она была настолько способной, что в наше ужасное антисемитское время ее неоднократно оставляли работать на кафедре. Научная карьера была бы ей обеспечена, но она всегда не выдерживала напряженного труда, уходя от того, как-то разбрасывалась. Интересовали ее по-настоящему только люди и отношения с ними, общие связи и интересы.
Была она детским врачом, и хорошим, затем работала преподавателем в медицинском училище. С больными и учениками у нее устанавливались особые, чисто человеческие связи, к каждому был интерес и внимание. Была она бесконечно доброй, всех жалела, всем стремилась помочь, как-то выручить. Жила всегда чужими интересами и заботами, и не просто интересовалась, старалась активно помочь. Среди ее друзей даже существовало определение «пинизм», т.е. бескорыстная помощь и служба другому, даже в ущерб себе. И на это ушла ее жизнь, в этом она реализовала себя, хотя ее возможности были большие. Нам всегда казалось, что она недооценивала себя, всегда огорчалась этому, но вместе с тем любили ее особенно, в ней были все корни из старого дома.
В эти годы папа, несколько отойдя от своей напряженной общественной работы, закончил и издал две свои книги: одну книгу по толкованию определенного трактата Талмуда «Мей Нафтеах» (ею пользовались как постоянным учебником в ешивах Литвы, Польши и Германии) и вторую книгу проповедей философского характера. Первая книга вышла в России, вторую издал Ильюша в Берлине. Титульный лист книги «Мей Нафтоах»
Титульный лист книги «Мей Нафтоах»
 Титульный лист книги «Диврей Давид»
Титульный лист книги «Диврей Давид»
Издание в 1920-е гг. в России талмудического труда было вообще из ряда вон выходящим явлением, все еврейские типографии были закрыты, даже шрифты уничтожались. Но папа получил разрешение у еврейского цензора, мы разыскали типографию, где-то на Красноармейских, бывшую типографию еврейской газеты. Цензор (как говорили, сама была дочь раввина) выдала разрешение, мотивируя тем, что никто в России читать эту книгу не будет. Ходили слухи, не знаю, откуда они шли, что выдали это разрешения, памятуя папины прошлые революционные заслуги. В 1905 году еще в Сувалках папа узнал случайно, что должны арестовать группу молодых революционеров (в их числе был и его пасынок Гдаля), предупредил их, и они бежали заграницу. Это событие действительно имело место в папиной биографии, но сыграло ли оно роль в данном случае – не знаю.
С середины 1920-х гг. начались гонения партии на религию вообще. Затронули на этот раз они и папу. Его, как бывшего служителя культа, стали выселять из Ленинграда, предложили уехать в течение нескольких недель. Папе было почти 80 лет, и он был заметной фигурой в еврейском мире. Появились сообщения в еврейских газетах заграницей. Дело дошло до запроса какого-то сенатора США в Наркоминдел СССР. Папу оставили в покое и даже возможность снять квартиру на Театральной площади. Но покоя, конечно, не было, да и не могло быть.
Прошел нэп, а, главное, его ликвидация, ликвидация многих иностранных концессий. Всюду были замешаны евреи, и они жестоко пострадали. Начались аресты, ссылки, лагеря, физическое уничтожение близких к общине еврейских кругов. Через некоторое время государственный антисемитизм тоже занял свое место в жизни. Жизнь в России к этому времени, не только еврейская, пошла по странному руслу: коллективизация, голод, массовый террор. Речь уже шла о борьбе за выживание.
В середине 1920-х гг. были закрыты все культурные еврейские общества, библиотеки, музеи, Еврейский университет. Началось, не без участия евсеков, преследование общественных деятелей, да и просто лиц, интересовавшихся еврейской культурой. Всякая заметная фигура в еврейских кругах, вся верхушка еврейской интеллигенции, молодые поэты, просто молодежь изымались из общества, изолировались.
Это была первая волна арестов. К счастью для многих она была менее жестокой, и многие из этой первой волны ссылок и арестов вернулись, не в пример следующим арестам. Были аресты и в синагогальных кругах, даже Любавический ребе был арестован и выслан; правда он был вскоре освобожден и выехал заграницу.
Папа очень тяжело переживал ломку еврейской жизни. Он все понимал, он видел, что старая жизнь – и социальная, и духовная – безнадежно разрушена, перспектив новому не было. В его глазах национальная жизнь евреев в России исчезла, все, чем жил народ тысячелетиями, все, в чем был смысл еврейства, прекратило существование. И не только ассимиляция грозила народу, шло наряду с этим и физическое уничтожение, начавшееся в годы гражданской войны и довершившееся сталинским террором.
Я видела моего папу плачущим один раз в жизни, хотя, как у всякого человека, у него было в жизни достаточно личного горя. Летом мы всегда жили за городом, и понятно, где бы мы ни жили, находился миньян, куда я провожала папу по субботам. Понятно, что и в тиша беав миньян тоже собирался. Папа – это было почетное чтение дня – читал вслух отрывок из пророка Иеремии о падении Иерусалима. Уже читая этот отрывок, папа стал плакать, закрывая лицо руками, и не мог остановиться. По окончании молитвы мы пошли домой. И папа снова горько плакал. Я его останавливала, успокаивала, он только говорил: «Ты не понимаешь, ты не понимаешь, это конец». Папа был в глубоком отчаянии.
 Раввин Давид Тевель Каценеленбоген, 1929 г., Ленинград
Раввин Давид Тевель Каценеленбоген, 1929 г., Ленинград
Я тогда оставалась из детей одна в доме, все разъехались. Окончив университет (папа уже не возражал, что все мы пошли в университет), я жила совсем оторванной от действительности жизнью. Работать папа меня не пустил из-за субботы, было много всяких причин. Как это ни странно, живя в доме отца, я больше всего увлекалась русской культурой, и все мои интересы лежали в ней. Я жила в еврейской среде, но дома у нас не было ни еврейской молодежи, ни сионистских настроений.
Окончив университет и расставшись со студенческой средой, я оказалась в вакууме. И тут случайно мой бывший учитель затащил меня на какую-то лекцию в тогда еще существовавший Еврейский университет. И тогда наступил, вероятно, давно подготовленный перелом в моих интересах. Я стала ходить в университет, жить вопросами еврейской культуры (язык-то я более-менее знала). У меня завелась компания еврейской молодежи. Это 1924-1930-е гг.
В конце 1930 года ушел из жизни папа, он умер через два часа после очередного заседания, ему было 83 года. С ним ушла целая эпоха. Последний гаон из великих раввинов старшего поколения, как писали о нем многочисленные некрологи в заграничных газетах.
Когда я недавно видела по нашему израильскому телевидению похороны Менахема Бегина, видела эту многочисленную скорбную толпу в горе, провожавшую своего вождя и учителя в последний путь, мне это напомнило похороны папы. Папин гроб несли, чередуясь, на руках от квартиры до Преображенского кладбища, такая же молчаливая толпа в черном, горестные люди.


Надгробие раввина Д. Т. Каценеленбогена на Еврейском Преображенском кладбище в Санкт-Петербурге
С кончиной папы отчий дом для меня кончился. Мама оставалась жить на старой квартире еще некоторое время, потом ее стали выселять и она переехала к Герцу. Оба брата, Герц и Саул, с семьями жили неподалеку друг от друга и старались поддерживать связь, но папиного дома больше не было. Весной 1931 года, как это было намечено еще при папе, я вышла замуж и переехала жить в совсем новую среду – дом деды Мили.
Теперь надо рассказать об этом доме – вторых корнях моих внуков, не менее глубоких и не менее важных, и о центральной фигуре этого дома – о деде Миле.
Деда Миля – Владимир Ильич Иоффе – принадлежал тоже к очень родовитой еврейской семье, но не по немецко-литовской линии, а к южным евреям и был ближе к хасидам. Деда Миля родился в Мглине, это городок в бывшей Черниговской губернии. Дед его был шойхетом, считался очень образованным человеком в еврейском смысле, хотя для его профессии это и не требовалось, и пользовался большим уважением в своей среде. Семья деда была большая и патриархальная. Сам глава семьи был человек ветхозаветного уклада, дети старались приобрести какую-нибудь профессию. Отец деда Мили учился на знаменитых бухгалтерских курсах Марка в Риге, у меня даже сохранился его аттестат, его младший брат был учителем в младших классах русской школы, сестра была фельдшерицей. Когда Илья Исаевич – отец деды Мили – женился, и у него появились трое мальчиков (деда Миля был младшим), он перевез семью в Пермь, на родине он не мог устроиться.
Оставшиеся на родине младшие его брат и сестры впоследствии погибли от рук немцев в дни Катастрофы.
Пермь был вне черты оседлости, прописался Илья Исаевич по ложному свидетельству ремесленника-переплетчика и официально этим занимался. Работал же он бухгалтером, жили небогато, но семья существовала. Сам Илья Исаевич был очень интересным и интеллигентным человеком. Я до сих пор жалею, что я – в силу его скромности и моего снобизма «папиной дочки» - мало его ценила и мало с ним дружила. Уже не поправишь.
Он получил традиционное еврейское образование, но по своим интересам принадлежал уже к новому поколению интеллигенции, интересовался новой светской литературой, еврейской историей в научном освещении, был сионистом. Когда он перевез семью с тремя мальчиками в чисто русский город с очень небольшим еврейским населением, город, в котором, кроме молитвенного дома и шойхета, не было никаких еврейских учреждений, перед ним встал вечный вопрос галута – как воспитать детей, чтобы они оставались евреями, не ассимилировались в сильной русской культуре. И это стало его жизненной задачей. Я думаю, он по призванию был педагог, причем талантливый.
Очень скоро, как только подрос старший мальчик Наум, Илья Исаевич организовал в Перми первую еврейскую начальную школу – Талмуд Тора. Собрал еврейских детей, выписал из черты учителя, и в этой школе учились его дети. При очень ограниченных средствах (они, например, сами носили воду из колодца, экономя на водоносе), Илья Исаевич выписывал детям выходившие тогда еврейские детские журналы, создал в доме большую библиотеку. В ней, кроме традиционных книг – Талмуда и многочисленных книг, с ним связанных, различных комментариев, что бывало в каждом порядочном еврейском доме - была и вся новая светская литература, новые поэты и писатели, выходившие периодические издания. Эта библиотека переехала вместе с ним, когда он перебрался в Ленинград к сыну, и хранилась у нас в доме. Перед отъездом в Израиль я эту библиотеку, как раритет (все еврейские книги были в ходе Революции уничтожены даже в частных домах) отдала в открывшуюся в 1989 году первую общественную современную еврейскую библиотеку в Ленинграде.
Мальчики хорошо знали еврейский язык, в доме старались говорить с детьми на иврите, это был второй язык. Мальчики были способные, скоро они сами стали издавать еврейский рукописный журнал. Наум – старший – занимался переводами, некоторые его переводы Лермонтова были даже посланы в детские журналы. В семье хранилась переписка с журналами по этому поводу, переводы имели безусловно литературную ценность.
Постепенно все трое поступили в гимназию (между ними было 2,5 года разницы). За выдающиеся способности трое были освобождены от платы за обучение, они все были потом золотыми медалистами. Старший мальчик, дядя Нюня, потом окончил медицинский факультет Казанского университета, работал врачом, а затем надумал и после Революции поступил в Академию художеств, перешел в Институт гражданских инженеров, окончил его и работал архитектором, имел свою мастерскую. Второй брат Лева умер молодым от туберкулеза.
Для Наума еврейская тема не стала определяющей в жизни, для Мили же, наряду с наукой, она была основным содержанием его внутренней жизни. Уже гимназистом 14 лет он представлял пермскую общину в центральной сионистской организации, собирал для нее деньги и пр. Когда однажды из центра прибыл контролер проверять финансы, он был совершенно ошарашен, увидев перед собой мальчика-гимназиста в качестве представителя и казначея пермского филиала этой организации. В последнем классе гимназии Миля вел кружок по истории Востока, организованный у них директором, переведенным в Пермь профессором-востоковедом. Тот прочил дяде Миле блестящее будущее историка. Золотую медаль ему выдали за выдающиеся способности в гуманитарных науках. Но, окончив гимназию, он поступил, как старший брат, в Казанский университет на медицинский факультет. До Революции профессия врача была гораздо более реальной для еврейского юноши.
Потом были всякие перипетии того времени: белые – красные. Он еще студентом был по очереди мобилизован в Красную и Белую армии, оказался вместе с отцом в Новосибирске, чуть не погиб от сыпного тифа на каком-то сибирском полустанке, его самоотверженно выходил фельдшер.
Много было всего, но в конце 1920 года он окончил тот же Казанский университет, в который поступил в свое время. Предполагалось оставить его для научной работы на кафедре патофизиологии, которая тогда считалась самой общефилософской дисциплиной. Тут проявился антисемитизм старой университетской профессуры, его забаллотировали, и он, получив диплом, уехал в Пермь, где стал работать в больничной лаборатории.
Здесь он, будучи, как всегда, очень инициативным, стал внедрять новые методы в практику и очень скоро уже заведовал этой лабораторией. Одновременно он развил большую общественную работу среди еврейской молодежи, организовал кружки по изучению иврита, по новой еврейской литературе, читал лекции по литературе со своими переводами поэтов на русский язык (у меня сохранились его доклады тех лет). Организовал также театральный кружок, где ставились пьесы на идиш. Деда Миля ведал литературной частью, был главным режиссером и ведущим артистом. Но его тянула наука, он решил уйти из практической медицины.
В 1924 году он переехал из Перми в Ленинград. Тут он выбрал себе Институт экспериментальной медицины, определенного руководителя и пошел туда работать добровольцем. Тогда это было просто. Начал он там работать в 1924 году лаборантом, проработал в институте 55 лет, дойдя постепенно до заведования отделом и получив звание академика. Но до этого было еще далеко.
Первые оды жизни в Ленинграде дядя Миля работал еще параллельно в какой-то лаборатории для заработка, дежурил там по ночам. Ночами же занимался переводами своих любимых еврейских поэтов на русский язык (они у меня сохранились).
Приехав в Ленинград и устроившись работать в институте, деда Миля сразу стал искать связи с еврейскими культурными кругами, без этого он не мыслил себе жизни в молодые годы. Стал посещать Еврейский университет, принял самое горячее участие в работах тамошних семинаров по истории медицины в Талмуде.
Они составляли новую ивритскую медицинскую терминологию (у меня опять-таки сохранилась эта картотека до нашего отъезда в Израиль). Деда Миля был связан с еврейским медицинским журналом «Арефуа» («медицина» – ред.), издававшемся на иврите в Палестине при Иерусалимском университете, переводил на иврит свои статьи и посылал их туда. Познакомился он в Ленинграде и сблизился с еврейской писательской молодежью, с кружком молодых поэтов. Дружба эта тянулась потом много лет, пока их ни пересажали (Ленский), или они ни уехали в Израиль (Карив). Читал деда Миля в Еврейском университете публичные лекции по истории еврейской литературы со своими переводами любимых поэтов Шнеура и Черниховского. Лекции эти пользовались неизменным успехом. Деда Миля был блестящим оратором, очень аристократичен, и сразу стал заметной фигурой в еврейских кругах Ленинграда.
Но вскоре началась официальная борьба с буржуазным национализмом, понемногу стали преследовать и закрывать все еврейские культурные учреждения. Был закрыт и еврейский университет, закрыт и куда-то перевезен и этнографический музей, все его уникальные ценности пропали. Закрыли и растащили богатейшую библиотеку. Начались аресты среди молодежи и вообще среди людей, близких к национальным кругам.
Тут с дедой Милей произошла чисто детективная история. В свои сибирские годы он был близок со знаменитым сионистским инженером Новомейским, впоследствии сыгравшим решающую роль в открытии и разработках минералов Мертвого моря. И вдруг в 1927 году в Ленинграде деда Миля получает через какого-то тайного агента короткую записку с приглашением приехать в Палестину: «Ты нам нужен», подпись Новомейского и приложение тайного маршрута через Китай, обыкновенным путем тогда уже не было хода в Палестину. В это время была тяжело больна мать деды Мили, и он не поехал. Потом всю свою жизнь деда Миля упрекал себя – без него построили государство.
Научные интересы уже тогда сильно его захватили, в сущности его жизненный путь уже определился, и в дальнейшем он целиком ушел в науку. Несмотря на все богатство своей натуры и многочисленные интересы, он знал одну, но пламенную страсть, страсть исследователя. И надо сказать, что благодаря ли его особой талантливости и активности, или потому, что было много способствующего этому в жизни, путь в науку был тогда открыт для тех, кто туда рвался, жизнь его не обманула. Он проработал в науке 50 лет, всю свою творческую жизнь, всегда был на передовом рубеже науки, много создал, открыл много новых методов и путей, имя его всегда было связано с оригинальными методами, он был зачинателем новой науки в России – иммунологии.
Деда Миля вообще был умный, живой, инициативный человек, необыкновенно серьезно и ответственно относившийся ко всему, что он ни делал. Главной отличительной его чертой в науке, да и в жизни, был необыкновенный дар интуиции. Он лавливал все новое, что зарождалось в науке и в жизни, умел критически все оценить и применить к делу. Был он очень критичен и самостоятелен, не давал себя обмануть ничем – было ли это учение Лепешинской в биологии или учение корифея всех наук в языкознании. Только этой его особенностью улавливать все новое и тому, что он был всегда оригинален, всегда шел впереди своего времени, был упорным в работе, только этим можно объяснить, что он достиг такого высокого положения в советском антисемитском обществе, не будучи к тоже членом партии.
С молодых лет и до старости он пользовался авторитетом безукоризненно требовательного к себе ученого, имя академика Иоффе было эталоном порядочности и ответственности, а это было во время всеобщего обмана и лжи. Так и писал о нем Поповский в своем очерке.
Деда Миля был человеком необычайно сосредоточенной жизни, особенно начиная со среднего возраста. Он целиком жил в своей науке, все остальное, за исключением еврейских дел, от него отходило. Впрочем (мы всегда этому удивлялись) он был настолько наблюдателен и все схватывал на лету, что всегда был в курсе русской литературы, хотя много лет русской изящной литературы не читал. Не читал он и газет, но был удивительно мудрый политик, всегда безошибочно оценивал все политические события, под каким бы идейным флером они ни подавались. Он ни минуты не был очарован, как все мы в молодости, романтикой Революции, как был, так и оставался сионистом. А уж Сталина – с первой минуты его появления на сцене – деда Миля иначе, роцеах, что значит «убийца» не называл. Он ни разу публично не произнес здравицу великому корифею, хотя выступать и председательствовать ему приходилось неисчислимое количество раз. И ставил себе это в заслугу.
Наука требовала от него с годами все больше сосредоточенности, и жизнь его становилась все более напряженной, отданной главной задаче. Постепенно он отказался от всяких развлечений и отвлечений (а был раньше человеком веселым), даже в филармонию перестал ходить, хотя музыку любил, и сам в молодости играл на скрипке. Только работа, семья и небольшой круг друзей, с которыми он тоже встречался редко. Друзей по профессиональной линии у него с годами совсем не стало, они были от него далеки. Остались только работа в институте, поездки за город на выходные, где он тоже усердно занимался. Летом он с необыкновенным постоянством в течение 25 лет ездил в отпуск в Кисловодск для лечения, любил горы, прозрачный воздух и пейзажи. Он много гулял, это был его единственный вид спорта и развлечение. Но и при этом он, как мы в шутку говорили, ходил и «мышлял», мысли о работе его не оставляли.
Лучше всего свое кредо, свои жизненные интересы деда Миля сам выразил в своем выступлении на Ученом совете института, когда его чествовали в связи сего 80-летием. Он тогда, придя домой, по моей просьбе его записал. Я его приведу.
14 февраля 1978 г.
Меня застигают на этой неделе врасплох, отмечая календарную дату. Надо думать, что это относится к тому, что ушедшие годы были прожиты небесполезно, и что без малого (без нескольких месяцев) 50 лет ушли на работу в этом институте.
 Титульный лист книги «В. И. Иоффе в Институте Экспериментальной Медицины»
Титульный лист книги «В. И. Иоффе в Институте Экспериментальной Медицины»
Принято и следует упомянуть добрым словом учителей. Воспользуюсь для этого старым изречением: «Многому я научился у своих учителей, более того у товарищей, всего же больше у учеников. И всем большое спасибо».
В последнее время мне приходилось думать о науке, как о предмете служения, как источнике эстетического удовлетворения, как средстве нравственного совершенствования. Вспоминается мне старое изречение: «Науки становится достоянием того, кто готов отдать за нее жизнь». И другое: «Ученик, стремящийся к науке, недостаточно чистосердечный, пусть лучше не переступает порога школы». Оба правила очень суровые, строгие. Но всегда я помнил и другое правило, которое внушал отец: «Не будь слишком требовательным, не будь ригоричным. Учи и воспитывай. Даже если видишь, что ученик движим не только чистым служением науке, помни, что начав не во имя науки, он придет к служению во имя науки».
У науки лицо суровое, требовательное, даже сухое. Может ли быть речь об эстетическом удовлетворении? Мне вспомнился доклад В. Л. Омелянского на тему: «Истоки русской микробиологии», который я имел счастье слышать почти 50 лет тому назад на одном из съездов микробиологов. Василий Леонидович проводил параллель между Мечниковым и Виноградским, отмечая общие черты в их личности, в научной судьбе и творчестве, и подчеркнул, что для обоих наука служила источником глубокого эстетического наслаждения. Я вспоминаю из своего детства фигуру отца, сосредоточенно склонившегося над фолиантом. И вдруг его лицо озаряется счастливой, удовлетворенной улыбкой – ответ найден, задача решена! Мне это запомнилось на всю жизнь. И кто из нас не ощущал красоты задачи, не восхищался красотой строгого эксперимента?
А теперь о науке как средстве нравственного совершенствования. Труднее всего говорить на эту тему. Я участвовал в войне, большой, тяжелой, страшной. Я был свидетелем того, как достижения науки, технические усовершенствования были обращены на устройство газовых печей в Майданеке, Освенциме, в которых сжигали миллионы людей: мужчин, женщин, стариков, детей в центре цивилизованной Европы. Что, казалось бы, можно сказать.
Но я видел и другую науку, здесь в осажденном, голодном и холодном Ленинграде. Я видел, как трудились только для того, чтобы найти лучший способ культивирования дрожжей, из которых можно было бы приготовить какую-то пищу для голодных. Я видел не только беззаветный труд в госпиталях. Я видел больше: я видел, как люди стремились исследовать, изучить и запечатлеть для будущих поколений тяжелый уникальный эксперимент, который поставила над нашим городом злая судьба. Резко изменился характер заболеваний: одни стали тяжелее, другие изменились, третьи исчезли вовсе. Пытливая мысль ставила вопрос – почему?
Люди сознавали, что надо дать ответ во имя науки.
И шли исследования, изыскания – в голоде, холоде, под бомбежками. И глядя на такую науку и, скажу без ненужной скромности, участвуя в ней, я постигал две истины, укреплялся в них. Первая – такие люди, с такой верой в науку непобедимы, вторая – можно и должно верить в большую мечту человечества, которая была высказана три тысячи лет тому назад в заветных словах: «И перекуют мечи на орала и копья на серпы, и не поднимет один народ на другой мечи, и не будут больше учиться войне».
Это выступление деды Мили на Ученом совете, после которого его молодежь качала на руках, говорит само за себя.
1-ого апреля 1993 года в день 95-летия деды Мили и 15-летия его кончины ученой общественностью Института экспериментальной медицины было устроено торжественное заседание его памяти под девизом: «Человек, опередивший свое время». На здании лаборатории, где он работал, была установлена мемориальная доска с его барельефом.
 Мемориальная доска академика В. И. Иоффе на здании Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге
Мемориальная доска академика В. И. Иоффе на здании Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге
Такое внимание к его памяти в России в наше время при всей сумятице, неразберихе и сложности ее социальной и политической жизни само говорит о значении деды Мили в русской науке и культуре. На этом заседании его учениками было зачитано его выступление в день 80-летия, оно расценено как завещание и сохранено. И на этот раз оно вызвало тот же энтузиазм. Обращения тоже имеют свою судьбу.
Но нужно отметить, и это дает еще более полное представление о деде Миле, что в этом его выступлении приведены четыре изречения из Талмуда и два из Пророков. Еврейские интересы наряду с наукой составляли его внутреннюю жизнь. Они сопровождали его всю жизнь, но в этом жизнь не только не соответствовала его стремлениям, тут его ждало одиночество, горечь и тяжелое, беспомощное сострадание друзьям.
В то ужасное, трагическое время, в котором мы жили, судьба как-то хранила деду Милю и помогла ему выразить себя в науке. Жизнь его, как ученого, шла не гладко и не просто, а в постоянной борьбе за возможность работать и осуществлять свои идеи, но все же, благодаря своим выдающимся способностям, он смог себя творчески проявить. Он выпустил 7 монографий, создал школу учеников, оставил значительный след в науке.
Мне хотелось еще написать о другой, более интимной стороне личности деды Мили. Был он человеком цельным, был в нем в наше кризисное время ломки всего и вся, гибели всех ценностей твердый жизненный стержень. И стержень этот - еврейская традиция. Вопросы связи еврейской традиции с еврейской религией, религией очень действенной, определяющей каждодневную жизнь, вопросы сложные и деликатные, нами не обсуждались, но деда Миля встал под знамя традиции, твердо придерживался традиций и не отступал. По характеру он был очень мягким и лиричным. Все в еврейской культуре, традиции и даже быт он всей душой любил, все было ему дорого, все он хотел сохранить. Он глубоко и всесторонне знал все, связанное с еврейской культурой, был очень образован, это тоже много значило. Я знаю, что день он свой начинал, как оно и полагалось простому еврею, с краткой молитвы, что значило: «Я из Твоей рати, готов служить под твоим знаменем». Для него самого эта потребность была необъяснимой. Был он даже педантичен в выполнении традиций, как в малом, так и в великом равно; это черта, свойственная именно еврейскому учению. Примером может служить вопрос милосердия, институт, столь значимый в еврейской социальной жизни.
Отношение деды Мили к милосердию, вопросу, казалось бы, эмоциональному, было как к строго регламентированной обязанности. Может быть, даже с обратной связью. Когда он стал профессором, а Сталин даровал научным работникам высокую зарплату, деда Миля мне объяснил (деньги были у меня), что по закону он должен отдавать на «цдака» десятую часть своей зарплаты. Первое время он даже следил за этим, потом бросил, уж очень я была безалаберна и вообще расточительна, и он убедился, что я его раскладок не ущемляла. Было у него с бумажнике отделение с отложенными, неприкосновенными деньгами. Это были какие-то обеты. Когда накапливалась порядочная сумма, он ее куда-то жертвовал.
Какие были у него движения души, особые связи, понять очень сложно, но некоторые случаи, меня поразившие, я помню. Умер Сталин. За некоторое время до этого было объявлено о «Деле врачей». Деду Милю уволили с работы, мы ждали высылки. Однажды рано утром – телефонный звонок. Звонит сотрудница деды Мили, подняла его с постели: «Владимир Ильич, включайте радио, врачей выпустили». Настолько это было неожиданно, так мы были неподготовлены, что, опустив трубку, деда Миля горестно сказал на идиш: «Бедная, она сошла с ума». Но тут раздался звонок уже в дверь, пришла соседка снизу, русская женщина, и повторила: «Врачей выпустили». И тут деда Миля так серьезно и очень задумчиво сказал опять-таки на идиш: «Есть Бог на небесах». На какой вопрос он в себе ответил? В этой фразе после миллионных убийств Гитлера и Сталина было что-то потрясшее меня.
Так же как деда Миля был педантичен и методичен в науке, он был педантичен в следовании традициям. Во времена блокады в 1942 году, в это ужасное, голодное время он всю пасхальную неделю не ел хлеба, т.е. того, что имело вид хлеба. Он был на военной службе, кроме хлеба им выдавали какой-то приварок, им он питался эту неделю, хлеб он отдавал. В Талмуде сказано, что в неизбежных случаях нужно эту неделю воздержаться в еде от того, что имеет вид квашеного хлеба.
Выдержанным и сдержанным деда Миля был во вторую половину своей жизни, в молодости он был очень эмоционален, мгновенен в реакциях, просто вспыльчив, но верен себе он был всегда. Вопросы совести, неучастия во лжи бывали иногда сильнее его самого, тут он не мог отступить.
Я помню такой случай, почти трагический, в нашей жизни. Было это в разгаре сталинских чисток, в 1930-е гг. Было объявлено о заседании микробиологического общества с осуждением арестованного председателя этого общества, учителя деды Мили профессора Оскара Оскаровича Гартоха. Все ученики Гартоха, очень видного ученого, должны были выступить с осуждением «врага народа». Деда Миля был уже тогда профессором, научным руководителем Пастеровского института. Уходя на заседание, деда Миля мне сказал, что выступать не будет. И вот через пару часов он возвращается бледный, взволнованный, мечется по комнате в каком-то бредовом состоянии: «Что я наделал, что я наделал! Сейчас за мной придут. И как я не подумал о детях. Я вижу Иленька на меня смотрит своими глазками, я о нем забыл, прости меня, Иленька!». И все в таком роде. Оказывается, все было как всегда: шло заседание, ораторы выступали с осуждением Оскара Оскаровича. Деда Миля терпел, терпел и вдруг не смог вынести, сам не помнит, как вскочил и сказал все, что думал об Оскаре Оскаровиче, как о своем учителе, о кристальной честности его как ученого. Закончил и сразу убежал, не возвращаясь на место, что там было дальше, он не знал. По дороге он все понял, смертельно испугался, что сейчас придут и его заберут. Мы и так каждую ночь были готовы к аресту, а тут уж наверняка. Спать не ложились, сложили сухари, кусочек мыла, кружку, стали ждать. Но на этот раз обошлось. Обошлось и дальше, слава Богу. Нажимы на деду Милю в наш век лжи и компромиссов были неоднократны. В науке, как и в жизни, он был строго принципиален, поступиться правдой, участвовать во лжи, пропустить сомнительную диссертацию, «порадеть за родного человечка» - этого от него не могло добиться никакое самое высокое начальство. Часто нежелание участвовать в недостаточно чистоплотных делах, столь распространенных даже в научной среде, дорого обходилось в личном плане, дело доходило до конфликтов, но деда Миля был верен себе.
Мы постоянно трепетали за деду Милю, оно и понятно, он был слишком заметной фигурой в наше страшное время. Иногда, уже после войны, после Сталина, когда мы все это вспоминали и перебирали, одна из его сотрудниц, верный ему человек, убежденно нам говорила: «Зря вы волнуетесь, не бойтесь за Владимира Ильича. Бог имеет за ним наблюдение». Защитник был верный, что и говорить, но все деда Миля только усмехался, не останавливал ее. С кем у него были договора, не знаю, но упование у него было.
Время было во истину ужасное. Начал деда Миля свою жизнь в Ленинграде в 1924 году, а уже в 1927 году начался сталинский террор, жизнь пошла кровавым путем. Единовластии Сталина, раскулачивание и уничтожение крестьянства, массовый террор, направленный, прежде всего, против интеллигенции, полный развал культуры, подавление моральных ценностей. Понятно, что в первую очередь репрессии обрушились на уже раньше подавленную еврейскую культуру, она была полностью уничтожена. Еврейская интеллигенция была физически вырвана из жизни, все наши друзья были арестованы, погибли в лагерях или были расстреляны. Мою семью террор коснулся в 1938 году, были арестованы два моих брата: Саул был сразу расстрелян, Герц погиб в 1942 году в лагере от голода, когда лагерях пожилых заключенных перестали кормить.
Жили мы в постоянном страхе, в ожидании ареста. Как деда Миля уцелел – это было чудо. Была какая-то тенденция - после того, как старшее поколение ученых было уничтожено – сохранить молодых ученых-микробиологов.
Сейчас, вспоминая это время, я не могу понять, как можно было все это пережить и вынести. Однако пережили.
Несмотря на все преследования, наш дом оставался каким-то оазисом, в котором тлели еврейские интересы. Заходили уцелевшие друзья, приносили попавшую каким-то чудом из-за железного занавеса литературу, просачивались известия из далекого еврейского мира: Палестины, Польши, Америки. Была связь с синагогой, отмечались праздники, на которые друзья приходили поодиночке, как на конспиративную квартиру.
Старались помочь семьям пострадавших, как-то сохранять литературное наследство ушедших поэтов. Вот тогда мы и спрятали тетради стихов Шварца и Ленского, которые значительно позже, уже после войны, передали в Израиль.
Обстановка становилась все более страшной, казалось, уже непереносимой. А тут пришла война, и казалось, что самые непредставимые ужасы впереди. Нас ждала четырехлетняя война и гитлеровское уничтожение нашего народа. Как это ни невероятно, пережили мы и это и живем дальше.
Сразу с началом войны деда Миля был мобилизован и назначен главным эпидемиологом Балтийского флота, всю войну и блокаду он пережил в осажденном Ленинграде. Был он награжден многими орденами и медалями, честно внес свою лепту в борьбу с Гитлером. Да и иначе быть не могло при активности его натуры.
 Блокадная фотография главного эмидемиолога Балтийского флота В. И. Иоффе после награждения орденом Красной Звезды (с врученным букетом из овощей). Июнь 1942 г., Кронштадт
Блокадная фотография главного эмидемиолога Балтийского флота В. И. Иоффе после награждения орденом Красной Звезды (с врученным букетом из овощей). Июнь 1942 г., Кронштадт
Я с моими обоими мальчиками и двумя младшими девочками Саула, которые жили после гибели Саула в моей семье, эвакуировались в Пермь, на родину деды Мили. Старшая дочь Саула Саррочка, пережив блокаду, уехала в 1942 году вместе с тетей Ниной, женой дяди Греца, на Кавказ. Эвакуировались они вместе с институтом, в котором Саррочка училась. Немецкое наступление настигло их там, и они погибли от рук нацистов при расстреле евреев в Минеральных Водах. Они было ушли в горы, но тетя Нина была больна, не могла идти, Саррочка не хотела ее оставить, они вернулись с дороги и обе погибли.
Мне хочется здесь рассказать о настроениях деды Мили во время войны и о его пророческих письмах, что он мне писал тогда. Во время войны деда Миля писал очень аккуратно, писал по-русски, письма как-то доходили, но иногда, когда была оказия, он писал мне вне цензуры на иврите, он мне писал о войне.
Мы все знали, что если немцы возьмут Ленинград, что было реально, у евреев останется только один выход – уйти в болота, окружавшие город, и погибнуть там. Эти письма из осажденного Ленинграда, посвященные только судьбам еврейского народа и Катастрофе были, конечно, трагическими, но не были вместе с тем совершенно безнадежными и звучали поистине пророчески.
Деда Миля вообще обладал необыкновенным даром интуиции, это было в нем даже сильнее, чем настроения, исходящие из логики. Все эти письма на иврите были у меня конфискованы при переезде в Израиль, это для меня невосполнимая потеря.
Письма эти, как я уже писала, были очень тяжелыми и трагическими, с полным сознанием всего, что нес гитлеровский геноцид, обещавший показывать евреев только в музее. Деда Миля не давал себя обманывать и утешать, он полностью понимал размеры и планомерность уничтожения народа. Одновременно он писал: спасение наше и будущие судьбы народа только у твоего брата. Тогда мне казалось, это нереально, звучало, как слабая надежда. А если бы это вовремя понимали и осознавали многие, они были бы спасены. Не понимали это и Учителя народа, и его вожди, не видели будущего.
После войны я с детьми вернулась в Ленинград, жизнь надо было начинать сызнова. Наша материальная и бытовая жизнь, несмотря на увеличивающуюся тяжесть общей жизни под нарастающей диктатурой Сталина, складывалась благополучно, благодаря высокому положению деды Мили в ученом мире. В 1946 году он был избран в Академию. Но вообще жизнь была угнетенной и одинокой. Семей Герца и Саула больше не существовало, братья мои были убиты Сталиным. Саррочка и тетя Нина были убиты немцами. Девочки Саула ютились около нас, Пина и Бела вышли замуж. Никого из друзей наших не осталось, большинство погибло или в лагерях, или было убито на войне.
Остро встал вопрос о воспитании детей. Мы оба сильно беспокоились об их еврейском воспитании и образовании. Уже до войны мы нашли Теве подпольного учителя иврита, и он стал его учить еврейской грамоте. Нужно учесть, что это было 1938-1940 гг., было достаточно рискованно и страшно, но сомнений у нас не было. Во время войны я, как могла, продолжала с ним заниматься. Начала учить и Илика. К моей чести должна сказать, что, отправляясь в эвакуацию, я среди самых необходимых вещей захватила Библию и еврейские учебники. В каждом письме из осажденного Ленинграда деда Миля мне напоминал, что эти занятия должны быть главной моей заботой. Не могу сказать, что дети много успели, но хоть что-то. Условия были тяжелые, я была издергана, особенно мне не хватало терпения и педагогического умения к маленькому Илику, он плохо усваивал, и нередко мы оба плакали на занятиях.
Когда мы вернулись в Ленинград, мы разыскали нашего старого учителя. Во время блокады деда Миля поддерживал его, как и многих других, из своего скудного военного пайка. И этот учитель стал заниматься с обоими мальчиками соответственно их возрасту. Учили Библию, грамматику, литературу. Учились до старших классов в школе. Я думаю, они были единственными детьми в Ленинграде, занимавшимися ивритом систематически. Отпраздновали мы их бар-мицву, конечно, тайком, мы были полностью «анусим» («принужденные» – ред.), как мараны в средневековой Испании.
С трудом по крохам стали мы создавать новый дом, новый домашний круг близких нам людей. Дом этот был очень закрытым, верхушка айсберга касалась советского общества, но по существу мы принадлежали другому ордену. Нужно еще учесть, каково было положение евреев после войны до смерти Сталина в 1953 году, смерти, которая спасла евреев России от судьбы евреев в руках Гитлера. Ведь уже были созданы концлагеря в Якутии и подготовлены списки евреев для депортации. Ко мне приходили друзья, родные, сговаривались ехать вместе, все понимали положение и хотели погибнуть вместе. Были физически уничтожены все представители еврейской интеллигенции, еврейские писатели, весь антифашистский комитет. Закрыты все культурные учреждения, библиотеки, театры, все те немногие еврейские общества и организации, чудом уцелевшие после 1930-х гг., закрыты все еврейские отделения при университетах. Началась борьба с космополитизмом, что вылилось в чисто антисемитское изгнание евреев из всех культурных и учебных заведений, со всех более-менее престижных служебных мест. Изгонялись евреи и из торговли. При том, что все рабочие и служебные места в СССР принадлежали государству, деваться было некуда.
Нельзя было проявить какой-либо интерес к созданному в 1948 году государству Израиль. Были опасны какие бы то ни было контакты с представителями израильского посольства, даже поздороваться с ними в синагоге, единственном сохранившемся еврейском центре, было предосудительно, об этом немедленно становилось известно КГБ с соответствующими выводами. Накануне смерти Сталина, 2 марта был закрыт отдел деды Мили в институте, и он остался без работы. Кадры его, за исключением евреев, и аппаратура были распределены между другими отделами. 5 марта было объявлено о смерти Сталина. А через несколько дней деду Милю вызвал директор института и предложил по-прежнему заниматься делами своего отдела, скромно добавив: «Раскладка теперь не та».
Непосредственная угроза жизни после смерти Сталина уступила место борьбе за достойную своих возможностей работу, за право детей учиться в вузе. Очень часто способный еврей работал как кули, его держал начальник, директор или редактор. Работа выполнялась евреем, лавры приписывались начальнику. Каждая напечатанная статья оплачивалась внесением начальства в число авторов и т.п. Таков был фон нашей жизни в те годы.
Все же еврейская жизнь, особенно духовная, претерпела большую эволюцию в последовавшие после смерти Сталина годы, особенно в нашей семье. Существование Израиля, сам этот разбудил в народе заглушенные и придавленные национальные чувства, казалось бы, уничтоженное самосознание. На нашу жизнь большое влияние оказал приезд дяди Ильюши в 1966 году, он реально связал нашу жизнь с жизнью Израиля, открыл перспективы переезда. Понемногу около нас образовался круг людей, знавших и любивших, а отчасти и профессионально занимавшихся еврейской культурой. Тут был востоковед Амусин, занимавшийся Кумранскими рукописями, вся семья Глускиных, Вильскер, занимавшиеся еврейской филологией и рукописями, Белов – переводчик, член Союза писателей, через которого деда Миля получал новую еврейскую литературу из-за «железного занавеса». И еще некоторые другие. Все мы жили интересами Израиля. Большую роль тут сыграло и радио из Израиля. Мы старались ежедневно слушать Израиль (несмотря на безбожное заглушение), были в курсе его жизни, волновались из-за его трудностей, переживали войны и потери, гордились достижениями. Деда Миля совсем перестал куда-нибудь ходить, все вечера были отданы и заполнены слушанием радио. На выходные мы уезжали в Комарово, где заглушение было менее ощутимо.
Собирались мы по праздникам, и не только по праздникам, делились новостями и изредка попадавшими из Израиля книгами и письмами. Да еще к этому времени тем, что происходило в России, в еврейских кругах. Медленно, скрыто, тайно шло возрождение национальной жизни и национального самосознания, стремление познавать, изучать еврейскую историю и культуру. Все началось уже в 1970-е гг. с «самолетного дела», с подпольного изучения иврита. Молодежь под руководством отсидевших и чудом уцелевших деятелей культуры – сионистов стала изучать иврит, еврейскую историю, традиции, отмечать еврейские праздники. Учителя и ученики преследовались, расплачивались арестами и ссылками, студенты исключались из вузов, но остановить эту волну было уже невозможно.
Никакого центра вначале не было, не хватало организации, не было не только культурных руководителей, не хватало просто знаний и правильной оценки положения, все стихийно нащупывалось. Но был молодой энтузиазм. Проснулось национальное самосознание. Молодежь осознавала себя в какой-то мере наследницей прошлого, считала своим долгом и правом разыскивать остатки культуры, культурных реликвий, с такой тщательностью уничтожаемых советской властью. Искали следы еврейских организаций, существовавших до Революции отчасти в первые годы Революции, искали памятники культуры, восстанавливали разрушенные и заброшенные кладбища.
К середине 1980-х гг. в Ленинграде были не только кружки по изучению иврита. Молодежь собиралась – центром стала синагога на Лермонтовском – отмечала праздники и устраивала в эти дни близкие по содержанию театральные представления с участием детей и для детей. Образовались даже еврейские частные детские сады. Устраивались выставки еврейских художников с соответствующей тематикой, выставки еврейских книг. Отмечались памятные даты. В «йом ашоа» (День памяти жертв Холокоста – ред.) устраивались выставки, на кладбище собирались толпы народа. Все это становилось новой традицией. Энтузиастами были организованы экскурсии по еврейским местам Ленинграда, в результате которых позже появилась книга М. Бейзера «Евреи Ленинграда». Стал регулярно издаваться подпольный журнал «Ленинградский еврейский альманах» (ЛЕА).
Конечно, не мог наш дом остаться в стороне от этого начавшегося национального возрождения. Молодежь в поисках культурных центром старого Петербурга, следов еврейской духовной жизни неизбежно должна была прийти в наш дом. Деды Мили не стало уже в 1979 году, и никто его отсутствие не мог восполнить. Но я оказалась кладезем воспоминаний о старом Петербурге, а дядя Тева был источником знаний еврейской культуры. Молодежи очень не хватало этих знаний, вся еврейская интеллигенция была физически уничтожена.
Дядя Тева сам вырос на стыке двух культур, ему был понятен и близок кризис этого поколения, выросшего вне еврейской культуры и ее ценностей. Обладая довольно богатыми знаниями, он старался знакомить молодежь с этими ценностями, учить их гуманному подходу ко всякой культуре. Он глубоко чувствовал основные проблемы, возникавшие в ходе дискуссий, часто выступал, и его выступления пользовались большим признанием.
Наш дом, как я уже сказала, неизбежно был втянут в этот круговорот. Дома стали появляться молодые люди, сначала робко, в одиночку, а потом в бывшем кабинете деды Мили стали происходить заседания, не хватало, как в старину, стульев. Публика была очень разношерстная, разная даже по своему внешнему виду, от очень растрепанных молодых людей, часто длиннобородых, до солидных, вполне светских людей.
Одно меня поражала во всех них: в каждом таком человеке уже с первого взгляда чувствовалось какое-то внутренне возбуждение. Что-то в беспокойных глазах, нервных движениях выдавало внутреннее напряжение, беспокойное горячее сердце. Все они пришли что-то решать, что-то предпринимать в важном для них деле.
Я так привыкла видеть вокруг себя в российском обществе глубокое равнодушие, безразличие к общим делам, всем все «до лампочки», что эти люди, в которых чувствовалась глубокая личная заинтересованность, казались мне незаурядными. Большинство из них решало для себя основной вопрос – евреи ли они, и как им жить дальше, как евреям. Тогда уже решались основные вопросы русского еврейства, его связь с Израилем, взаимоотношения с властью. Наметились уже те острые проблемы русской диаспоры, которые и сейчас не только не разрешены, но стали еще острее, сам вопрос о существовании этой диаспоры.
Но это вопросы решались уже без нас – мы собрались уехать. Уже последние годы жизни деды Мили мысли были отправлены на отъезд семьи в Израиль. Сам деда Миля ехать не мог, был болен и стар, да его и не выпустили бы. Ехать надо было детям.
Как развивались события дальше, тому мы все свидетели. Все шло нелегко и непросто.
12 апреля 1989 года мы прилетели в Израиль.
Хайфа, 1994 г.
Примечание редакции: слова, записанные в рукописи воспоминаний на иврите, мы приводим в транслитерации, сопровождая, если нужно, переводом.
Статью д-ра Михаэля Бейзера «Еврейская аристократия: раввин Санкт-Петербургской Хоральной синагоги Давид Тевель Каценеленбоген и его родословная» читайте тут.
О филантропической деятельности семьи Иоффе, помогавшей Синагоге и еврейской общине Ленинграда в советские годы, читайте в воспоминаниях Рувима Брауде, внука ленинградского раввина Лубанова.
Воспоминания праправнучки раввина Каценеленбогена Мики Эфрос (линия семьи от его первого брака) читайте тут.
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2