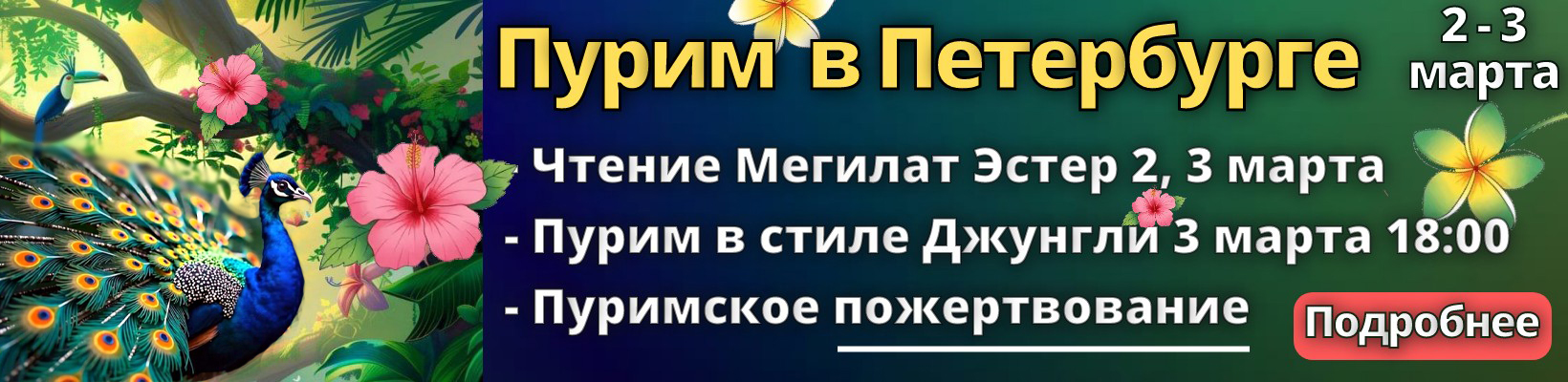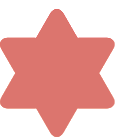03.02.2023
В Петербурге вышла книга Александра Френкеля «Неизвестный Шолом-Алейхем»
Здесь и исследовательские статьи, и переводы. О советских традициях перевода Шолом Алейхема и о новом подходе Александра Френкеля рассказывает идишист Йоэль Матвеев.
В истории российских евреев мир местечек черты оседлости и Петербург обычно представляются антиподами. Мало кто задумывается, что в Лениграде жил один из самых «местечковых» еврейских художников, а самый «местечковый» еврейский писатель-классик выбрал языком своего творчества идиш благодаря первой в стране газете, выходившей на этом языке в нашем городе.
30 января в Еврейском общинном центре Петербурга прошел вечер, посвященный двум разным, но тесно связанным событиям: открытию новой выставки графических работ Анатолия (Танхума) Каплана, посвященной 120-летнему юбилею со дня рождения этого замечательного художника, и презентации книги Александра Френкеля «Неизвестный Шолом-Алейхем».


Около сорока представленных литографий из собрания известного петербургского коллекционера и искусствоведа Исаака Кушнира представляют собой иллюстрации известных произведений Шолом-Алейхема: рассказа «Заколдованный портной» и романа «Стемпеню».
К творчеству Каплана мы еще вернемся, но вначале расскажем о второй и главной части вечера: публикации сборника научных исследований и произведений великого писателя, впервые переведенных автором книги на русский язык. Александр Френкель – директор петербургского Еврейского общинного центра, историк, переводчик, литературовед и деятель культуры.

Книга вышла в декабре 2022 года в петербургском издательстве «Симпозиум». Обложка и иллюстрации выполнены петербургским художником Александром (Айзиком) Рохлиным.
Для многих советских евреев знакомство с культурой своего народа началось с известного шеститомного собрания произведений Шолом-Алейхема на русском языке, которое трижды выходило в Советском Союзе общим тиражом едва ли не в полмиллиона экземпляров и вошло в канон классической советской литературы. Переводы эти, как отмечает Френкель в кратком вступлении к своей книге, снабжены «скупыми и тенденциозными комментариями», однако позволяют читателю многое узнать о еврейской традиции и культуре. От себя могу добавить, что именно благодаря этому шеститомнику из районной библиотеки я во второй половине 1980-х впервые получил множество ценных сведений о «празднике кущей», «филактериях», правилах кошерной пищи. Хотя позже выяснилось, что многие из описанных в этих переводах реалий именуются самими евреями совсем иначе, я по сей день считаю это собрание во многом более полезным для ознакомления с еврейской культурой, чем некоторые современные технические руководства по законам иудаизма. Михаилу Шамбадалу, главному советскому переводчику Шолом-Алейхема, великолепно удалось передать дух оригинала.
При всех несомненных достоинствах, «канонический» советский шеститомник все же страдает и рядом недостатков. Как отмечает Френкель в кратком вступлении к новой книге, ее задача — не перечеркнуть существующую переводческую традицию, на которую он сам же и опирается, но дополнить и расширить ее рамки. Каждому переводу предпослана вступительная исследовательская статья. Остальные статьи сборника акцентируют внимание на месте Шолом-Алейхема в пространстве русской культуры.
Как ни парадоксально, Шолом-Алейхем действительно остается во многом неизвестным. Как отметил на презентации известный петербургский фольклорист, переводчик и литературовед Валерий Дымшиц, дело с исследованием наследия еврейского классика обстоит, на самом деле, из рук вон плохо.

Несмотря на бесчисленное множество научных публикаций на десятках языков, посвященных великому писателю, по сей день нет ни академического или хотя бы полного собрания его произведений, ни полной библиографии. Каждому исследователю приходится заново копаться в библиотеках и архивах. Нет ничего подобного четырехтомному «Словарю языка Пушкина», хотя язык Шолом-Алейхема оказал значительное влияние на всю последующую еврейскую литературу.
Если продолжить сравнение с русским поэтом, подробнейшие исследования позволяют литературоведам в мельчайших подробностях реконструировать атмосферу пушкинской эпохи. Лучшие стихийные «реконструкторы по Шолом-Алейхему» – это, наверное, современные идишеязычные хасиды, которые светскую литературу на идише обычно не читают. Академическим исследователям не хватает не только исследовательского аппарата, но порой и базовых знаний еврейской традиции, а без них адекватное понимание произведений классика невозможно.
Первый перевод в сборнике – фельетон «Консилиум», в котором Герцль, Нордау, Ахад-Гаам и другие известные еврейские политические деятели начала прошлого века ведут спор о сионизме. Фельетон предваряет исследование Френкеля с провокативным названием «Этот сионист Шолом-Алейхем», которое завершается выводом о том, что писатель пристально следил за всеми движениями на «еврейской улице», включая и сионизм, но при этом постоянно иронизируя.
В русских изданиях «Записок коммивояжера» (альтернативное название – «Железнодорожные рассказы») отсутствует один рассказ из двадцати. Называется он «Дер центер» («Десятый»). По мнению переводчика, дело тут в неполиткорректной живой еврейской речи: слово «гой», по подсчету Френкеля, фигурирует в этом рассказе с рекордной частотой. Буквальный перевод прозвучал бы значительно грубее оригинала. По всей видимости, советские еврейские литературные критики именно по этой причине вычеркнули «Десятого» из русского «канона» (на идише он однажды в СССР публиковался). Ничего в принципе не мешало переводчикам заменить этот пейоратив более нейтральными словами, что Френкель мастерски и сделал, прочитав свой перевод рассказа на презентации. «Гой» в его варианте не фигурирует ни разу.
Забавный пример заведомо непереводимого выражения – рассказ Шолом-Алейхема под названием «Кидалто ве-кидашто». Название основано на игре слов: русский глагол «кидать» спрягается, будто это исконное древнееврейское слово. Френкель оставляет оригинальное заглавие, не решаясь заменить его на «бесцветное», как было сделано в английском переводе Курта Левианта. Рассказ этот интересен тем, что был написан незадолго перед смертью Шолом-Алейхема и отражает, судя по странному сюжету, тяжелое состояние автора.
По мнению Дымшица, исследовательская работа проведена в сборнике глубоко и исчерпывающе. К примеру, неопровержимо опровергнут миф о том, что роман Шолом-Алейхема «Кровавая шутка» был запрещен в СССР. Исследование проиллюстрировано советскими афишами театральных постановок этого произведения.
Книга Френкеля представляет значительный интерес и для носителей идиша. Помимо важных исторических и культурологических исследований, отточенные в критических спорах с Дымшицем техники переложения литературных текстов на русский могут пригодиться профессиональному переводчику.
Культура ашкеназских евреев неоднородна и в ней есть множество региональных особенностей. Было бы интересно исследовать, повлиял ли на известные русские переводы Шолом-Алейхема тот факт, что писатель был украинским евреем, а его переводчик Шамбадал — гомельским литваком? Хотя еврейский дух оригинала, как выше сказано, передан отлично, не получился ли русский Шолом-Алейхем несколько «олитваченным»?
Различие это видно воочию в литографиях Анатолия Каплана (1902-1980), уроженца белорусского местечка Рогачев. Все события с шолом-алейхемовскими героями происходят у него именно в Белоруссии, а в подписях на литографиях встречается белорусско-литовский диалект идиша. Можно назвать Каплана своего рода художественным переводчиком классика с одного варианта восточноевропейской еврейской культуры на другой.
Напомним, что Шолом-Алейхем, по его словам, осознал литературную ценность идиша после ознакомления с публикацией в петербургской газете «Юдишес фолкс-блат». Так северная столица стала поворотным пунктом в еврейской литературе. Если Шолом-Алейхема многие по праву считают самым еврейским писателем, то Каплан, по мнению Дымшица, – и самый еврейский, и самый петербургский художник. В Инженерном доме Петропавловской крепости проходит сейчас еще одна выставка его произведений под названием «Ленинград», где представлено около 160 литографий и рисунков, которые признаны одними из лучших образцов изобразительного искусства, посвященных городу на Неве.
Йоэль Матвеев
Фото автора
Выставка Анатолия Каплана в Еврейском общинном центре (ул. Рубинштейна, 3) продлится до 25 марта
Купить книгу Александра Френкеля «Неизвестный Шолом-Алейхем» можно тут
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2