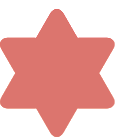24.08.2023
«Найдите хороший пасук, чтобы закончить мой рассказ…» К годовщине смерти Якова Цигельмана
Пять лет назад, 24 августа 2018, в Израиле скончался уроженец Ленинграда, писатель Яков Цигельман. К этой дате публикуем отрывок из его романа «Похороны Мойше Дорфера». Он написан на основе биробиджанских дневников писателя, которые были арестованы КГБ и затем восстановлены автором по памяти. Из этого текста явственно видна ситуация того времени в еврейской газете и самой ЕАО.
 Яков Цигельман в молодости
Яков Цигельман в молодости
Текст предоставила историку и писателю, постоянному автору нашего сайта Яну Топоровскому вдова Цигельмана Анна Исакова.
Ранее, 24 августа 2021 года, мы опубликовали посвященный Цигельману литературно-биографический очерк Яна Топоровского – «Мидраш его жизни».
Похороны Мойше Дорфера. Отрывок из романа
- С детских лет мечтал о театре наш дорогой Мойше. Подобно шолом-алейхемовским героям он ушел из местечка с бродячей труппой. ОН объездил всю Европу, он побывал в Южной Америке и вернулся в Советский Союз, чтобы строить социалистическую еврейскую культуру. ОН был учеником Михоэлса.
- Михоэлс удивлял! – говорит Мойше Дорфер, щурясь на багрово-тяжелый закат за мостом через Биру. – Однажды ко мне пришла девушка, знакомые люди привели: «Дитя хочет играть на театре! Девочка бредит театром!..». Скажите мне, какой еврейский ребёнок чем-нибудь не бредит? Эта бредила театром. И этот бред был единственным её касательством к театру. Ну, абсолютно не способная девочка! Милая такая, личико славное и всё такое, но... То есть к чему-нибудь у неё способности были. Но к театру – только бред!.. Но! Знакомые просят посодействовать! Как не посодействовать? Я – к Михоэлсу. Так, мол, и так, есть еврейская девушка, бредит театром... Он посмотрел на меня. Как посмотрел! Очень по-еврейски: голову набок, глаза прищурил и... вот так!.. Я смутился. А он говорит: «А гутэ мэйдалэ?..Мойшэлэ, харц майнэ, кен мэн мит ир ибершлофн?» (перевод с идиш: «Хорошая девочка? Мойшале, душа моя, с ней можно переспать?»). Ха» Вы понимаете? Ничего вы не понимаете, и я вам объясню. Михоэлс мог сказать «нет!», и дело было бы кончено. Михоэлс мог бы сказать «да», пригласить девушку и сказать «нет». Но девушка шла бы и надеялась, а, услышав «нет», огорчилась бы на всю жизнь. Услышать «нет» от Михоэлса!.. И что же он делает? Он видит, что я устраиваю девушку по знакомству, попросили, и я делаю. Он видит, что лучше будет, если я наберусь храбрости и сам скажу девочке «нет». Моё «нет» её не убьёт...А как сказать, чтобы не обидно? Очень просто: скабрезной шуткой! И знаете, эта самая скабрезность настроила меня так, что я шутливо поговорил с девушкой, посмеялись мы с ней, и я как-то, уж сейчас не помню, как отвлёк её от театрального бреда... Да...Чему учит нас этот мидраш? как говаривал мой рэбэ? Он учит нас, что, если человек хочет быть добрым, он должен быть мудрым, как Михоэлс в жизни, и дальновидным, как Ботвинник в шахматах. Умет посчитать ходы и быстро проиграть в голове, чтобы понять и знать, к чему может привести твой поступок. А быть добрым налево и направо... У Шварца, у Евгения Шварца, есть такой король. Так у этого короля была тётя. Она никому не могла отказать. И все этим пользовались... Такая она была, блатная королевская тётя...
- Он был еврей? – спросил старик в мастерской.
-Авадэ,- ухмыльнулся Гершков. – Авадэ («разумеется», идиш), он был еврей!
- Так почему же вы не хотите поставить на его могиле «могн-довид»?
- Почему – не хотим?! Нельзя!
- Почему – нельзя? Пожалуйста! Я вырезал из жести «могн-довид», этот малый выкрасил его, мы вместе укрепили «могн-довид» на пирамидке... Вот он, берите! Почему нельзя? Ложьте на машину, везите на кладбище и поставьте его на могиле Мойше Дорфера, да будет благославенна его память! Он заслужил, чтобы мы для него постарались.
- Да, - сказал Гершков. – Он заслужил
- И чтобы вы постарались, он заслужил тоже, га?
- Конечно, - кивнул Гершков. – Ведь мы были друзьями.
- О да! Вы были ему таким другом, что стесняетесь поставить на его могиле «могн-довид».
- Что вы пристали ко мне с «могн-довидом»? Я это всё придумал? ... Это вдова не хочет. Люба не хочет!
- Га! Кто же захочет? Она боится, это да! «Не хочет!». Она, я думаю, не хочет, чтобы вы пошли в горсовет или в горком... Я знаю, куда вы ходите?
- Вы же старый человек, постыдитесь!
- Я должен сердиться? – вскинулся старик. – Га? - и он развёл руками. – Я должен стыдиться? Как вам это нравится? Я должен постыдиться! А ходить в горком и стучать на больного старика, что он, мол, антисоветски настроен, что он слушает Израиль по радио – это не стыдно? Я должен постыдиться! Как вам это нравится?
- Я так не говорил!
- О реб Аврум, а как вы говорили? Скажите – как?
- Что вы ко мне пристали? Чего вы от меня хотите?
- Знаете что, Аврум, я даже не хочу, чтобы вы были человеком. Я не могу этого хотеть – некому родить вас обратно.
- Слушайте!.. Замолчите!
- Эх, Аврум, почему вы вовремя не замолчали? Глупый вы человек, вы отняли у старика дело его жизни – почему вы сразу его не убили? Он приехал в Биробиджан из Бразилии, а в Бразилию из Германии, а раньше всего он выехал из Польши, из маленького-маленького польского местечка.
- Что вы разговорились, старик? Приходите на похороны и рассказывайте.
- А что вы думаете, Гершков, я не приду? Я приду. Но сейчас я хочу молодому человеку рассказать про Мойше. Я могу рассказать? Здесь не горком, не горсовет, а молодой человек, я вижу, порядочный человек.
- Почему вы знаете?
Я смотрю на вас, Герщков, и я сравниваю, и я смотрю на него, и я вижу... Этого мне достаточно! Вполне! Так вот, молодой человек... на чём я остановился? Ах да! Я не был с Мойше в местечке, я помню его по Бразилии. Он участвовал в еврейских постановках в Бразилии. Он играл на сцене и учил испанский язык, он читал «Дон Кихота» и думал о своём родном местечке. Он учил испанский и всегда помнил идиш, прекрасный польский идиш. ВЫ знаете, что это такое?.. Да? Знаете? Правильно, Люба говорит на таком идиш. И Люба, и Мирьям. Они тоже из Польши...как они оказались здесь – это уже другая история... Интересная, но совсем другая... Вы знаете, что Люба сидела? Семь лет... А за что? За то, что писала стихи по-еврейски. Они сказали, что она космополитка. Можно подумать, что она писала стихи на космополитском языке... Вот и я говорю – нет такого языка, а за что её посадили?.. Любу посадили, а её сын вступил в комсомол. Сын вступил в комсомол, и Люба устраивает в лагере маленький праздник по поводу вступления её сына в комсомол. Её сын – комсомолец, она устраивает праздник, и её охраняют комсомольцы, товарищи её сына... Любе было плохо. Да! Люба сидела, ни про кого из нас не будь сказано! Люба работала на лесоповале – чтоб наши враги там валялись! А Мойше? Он остался без Любы, с мальчиком на руках. Не грудной младенец, но сколько он требует внимания! Театр закрыли. Театр имени Кагановича закрыл сам Каганович! Актёры – кто куда! Врассыпную! Кого успели – похватали, кто успел – удрал, кто сумел – спрятался... А куда спрячется Мойше? Где его видят, там про Любу вспоминают. Куда он спрятался? В старую профессию. Мойше пошел на швейную фабрику, мастером в пошивочный цех. Видите, как поворачивается? Мальчик бежит к искусству, к театру, рискует, голодает, страдает – это правильно? Это правильно. И Мойше пришел к большому искусству, Мойше стал учеником Михоэлса, Мойше стал актёром еврейского театра в Биробиджане. О! Какая это была высокая степень!.. Это правильно? Да! А теперь его загоняют обратно, и он должен опять заняться своей шнайдерай... Люба сидит, Мойше шьёт, а душа его болит и за Любу, и за мальчика. А вокруг люди смотрят на него и говорят: «Вот сидит Мойше Дорфер, его жена – враг народа, он и сам – враг народа, почему он не сидит?» А Мойше думает: «Если меня возьмут, что будет с мальчиком? Ведь его тоже возьмут, и он пойдёт по тюрьмам». Люба, как говорится, уже сидела на месте, про неё всё известно. А Мойше еще не знал – или он поедет? И что тогда будет… Я могу об этом говорить, потому что сам сидел и уверен, что душою болеют больше те, кто здесь, а там – больше телом. Я знал, что моей жене здесь было хуже, чем мне там... Вот как жил Мойше эти семь лет: он думал, что теперь всё пойдёт так, как пошло, если не хуже... И вдруг – Люба вернулась, вернулись некоторые уцелевшие друзья. Вот еще немного – и театр откроют. Но вместо театра – туфта, халтура, эрзац. Ничего еврейского, только название. А еврейское – «идишкайт» - это было для Мойше главным. Здесь для него всё начиналось, и всё кончалось. Еврейское для него означало – родное. К этому родному, к «идишкайт», он хотел добавить то, про что толком сам не знал. Ему это казалось хорошим, добрым, справедливым, честным... Что к чему нужно присоединять, зачем присоединять? Каждый хорош сам по себе? Пусть самим собой и остаётся. Мясо – это хорошо. Молоко? Тоже хорошо. А «кошер» будет не смешивать мясное с молочным. И каждому – своё. Тем более, что один жить не может без котлет, а другой предпочитает творог... Еврейский театр... А почему – еврейский, а не русский? Мальчик из польского местечка читает Сервантеса и Кальдерона – почему не испанский театр? Нет, еврейский! А они обвиняли нас в космополитизме... И почему не Латинская Америка, если уж он там был? А потому, что он услышал, что создаётся Еврейская республика! На Дальнем Востоке? Ладно, ведь когда-то хотели даже в Уганде, так пусть будет Дальний Восток, пусть будет, где угодно, но – еврейская государственность, развитие еврейской культуры, еврейской жизни – «идишкайт»! Он один, что ли, на это попался?.. Такие вот дела... Про это нужно помнить! Нельзя забывать!.. А доносов Гершкова я не боюсь. От моей «жестянки», куда меня денут? Я им не нужен. Я стар. Им, к сожалению, нужны вы, молодые. Они любят молодых ломать...
Помнится: мы бродим по дворам и дворикам нашего города, смотрим игру теней. Удивляемся фантазиям оконного света во двориках вдоль каналов, встречаем неожиданные закоулки, внезапные лестницы. Дворы, дворы...
И здесь я часто захожу за дома, протянутые вдоль линеек-улиц, вхожу во дворы и ищу правду о Биробиджане, старую правду городской истории. Дворы в этом городе - места погребения прошлого.
Здесь под строительным мусором и пятнами асфальта похоронены топоры и пилы первых строителей города, а с ними их энтузиазм, их надежды. Это кладбище порывов, свалка идеалов.
Вечерами свалки даже симпатичны: причудливо нагромождение теней от мусорных куч и баков, - если б только не пахло на свалке! Утром солнце осветит разноцветное гниение и щели в стенах, пыльную листву, напряженные лица, идиотские лозунги, - а вечерами свалка симпатична: фонари сквозь зеленую листву, коричневые стены домов, далеко слышный шепот. Печально выпевает скрипка, что день будет завтра, был и сегодня и, а вечер длится только один вечер. Что мы знаем про вечер? Вечер - театральный маляр, плотник и осветитель. Все перемешал и перепутал.
Помнишь, я писал тебе, что подружился с Николаем Сулимой, заведующим отделом сельского хозяйства в нашей, русской, редакции. Мужик он славный, очень русский, а я люблю людей, в которых сильно выражено национальное начало, национальная суть.
Коля Сулима, эдакий русский мужик, с тягой к земле, к природе, основательный, спокойный, и вообще добрый малый. Мы часто заходим к друг другу поговорить о стихах, просто поболтать о редакционных делах, например, о дураке Фетисове, замреде.
Фетисов недавно написал статью, смысл которой сводился к тому, что если бы в красных уголках на фермах было больше плакатов и тому подобной наглядной агитации, то, представь себе! коровы давали бы больше молока. Статья называется «С чего начинается молоко», она одобрена обкомом, над ней публично нельзя смеяться.
В нашем отделе работает чудесная баба, Аня Серова. Когда она идет по редакции, ветер вздымает листки на доске приказов, резкий сквозняк открывает двери кабинетов и выносит прочь табачный дым. Также резко, энергично она пишет: умно и всегда по делу. У нее двое детей, кроме мужа, но это не мешает ее хорошему настроению.
Аня мне рассказывает: пришли, мол, к ней в воскресенье гости, Бахманы. Сидят, все как водится: выпивка, закуска, разговоры. Приходят Сулима и Лифантьев, зам военкома. Уже не «сухие», но и не пьяные, а так. Еще могут выпить, если за компанию. Сели, выпили, приступили к общему разговору. Коля в подпитии любит почитать Есенина. Почитал. Заговорили о литературе вообще. И вдруг Сулиму как прорвало.... Анька говорит: аж побледнел, глаза стали красные!.. И вот наш Коля Сулима, обаятельный мужик, душа человек и мой приятель, говорит. И говорит он, обращаясь к Бахманам, вот что: «Вы, жиды, погубили нашу культуру! Ваши Уткины загадили нашу литературу своими жидовскими мышами! Вы внесли меркантилизм вы нашу жизнь. Базарные идеи вашего талмуда вы предлагаете нам взамен высоких идеалов Толстого и Достоевского. Ненавижу, - кричит, - вас! Вы все продаете и все покупаете! Вы лезете в нашу науку, в литературу, в душу нашу лезете! Ваше место на рынке, за прилавком, ваши рыночные обычаи тянутся за вами, как селедочный запах! Всюду жиды! Куда ни погляди - всюду! Провоняли Россию!»
Где-то в этом месте Анька трахнула кулаком по столу и сказала: «Вот что, Николай! Ты пришел выпить и поговорить. Ты выпил и сказал все, что имел. А теперь убирайся из моего дома!»
И они, Сулима и Лифантьев, который молча пил в продолжение дебатов, ушли.
Как тебе это? Лично мне эти идеи очень знакомы, я слышал такие речи от своих приятелей - русских интеллигентов в Ленинграде и Москве, в более академичной форме. Исходная точка проста: «Истинно русским делом должны заниматься истинно русские люди». И поскольку мои друзья-приятели, столичные интеллигенты мыслят шире, чем Коля Сулима, а также начитаннее, чем он, то они приходят к такому выводу: «Вам, евреям, не нравятся советские порядки, но ведь вы же и принесли идеи коммунизма и большевизма в Россию. Вокруг Ленина было много евреев, евреи были в каждом слое массы большевицкой революции. В сталинских преступлениях евреи участвовали очень активно. И вот опять разгорается антисемитизм - вы пожинаете бурю. Наш русский народ ненавидит вас, потому что вы - виновники его несчастий». Это вместо прежнего «жиды Христа распяли».
Я обычно не возражал на это, я молчал. То, что я хотел бы сказать, обращено не к русским, у которых много своих бед, длящихся более пятидесяти лет и по сей день, а к самому себе и к соплеменникам своим, к евреям. А сказал бы я вот что: «Видите, что получается, когда мы, евреи, лезем в чужие хлопоты? Не поискать ли нам своих забот? А мы кинулись участвовать в революциях, строить соцкультуру, ассимилироваться под русских. Мы забыли, что обрусеть может человек любой нации, от немца до японца. А еврею это невозможно, потому что на этот случай есть у русских поговорка: «жиду крещеному (ассимилированному тоже) и вору прощеному - одна цена». Так похлопочем о себе!»
Слушал я Аню и Бахмана с улыбкой, с эдакой мудрецкой улыбкой. И улыбка эта стала еще шире, когда я узнал, что про «антисемитский инцидент» стало известно главреду Гуревичу и Абраму Мордкевичу, секретарю парторганизации. Бахман написал заявление, и вот они «занялись этим вопросом» и беседовали с Аней.
Итак, член КПСС Николай Сулима допустил антисемитскую выходку и допустил ее прямо в Еврейской автономной области. Если бы дело происходило, например, в столицах, то поговорили бы - и баста! А может, и говорить не стали бы - так бы утерлись. А в ЕАО - вроде бы выходит, национальное оскорбление. Как же! Старик Мицель, ответсекретарь, ходит серый: «Я его из младших литсотрудников в журналисты вывел, ведь он мой ученик!» Панман, замред по идеологии, вздыхает: «Как я с ним говорить теперь буду? Как руку при встрече жать? Как на планерках рядом сидеть?» Еврейская редакция чуть не в траур оделась. Короче говоря, вот только что все узнали, что живут среди антисемитов! Пошло разбирательство. Алла Авдошина, мой непосредственный начальник, говорит Сулиме: «Коля, ты покайся, скажи, что был пьян, не помнишь, что говорил. Покайся, Коля! Но учти, я как член партбюро буду голосовать за наказание на всю катушку... Дурак ты, дурак! Нашел, где откровенничать!» Гуревич и Мордкевич посоветовались в обкоме. Там, конечно, все очень возмутились, а больше всех - Кассович, антисемитский заводила, местный главный жидоед. И назначили партсобрание с разбором персонального дела.
Как ты понимаешь, Коля на собрании каялся, плакал, говорил, что напился как свинья, что совсем так не думает, что очень любит евреев: «И ты, Валерий, и ты, Абрам, я же с вами столько лет!... А вы, Григорий Михалыч, вы же меня выучили...» и тому подобное. На собрании присутствовал и Лифантьев, дружок Колин, который решил повернуть дело и сказал, что все неправда, что Коля ничего не говорил, а вот Серова, она - антисемитка, это все она... (прием известный!). Лифантьеву приказали заткнуться, и он заткнулся, а Коле... - что ж, как говорит Панман, что ж! - ему объявили выговор, не строгий, а так.
И все? Нет, не все. На этом дело не остановилось. Сотрудники русской редакции (русского происхождения) объявили бойкот Ане Серовой. Они перестали с ней разговаривать. Даже в официально-деловом порядке. Игнорируют ее, как будто не видят и не слышат.
Анька ходит зареванная: «Мои родные русские люди не хотят со мною разговаривать!.. За что? Разве не нужно заступаться за евреев? Я люблю евреев, а со мной за это не хотят разговаривать! Я ведь знаю, евреи весь талант свой отдают России, любят Россию! Зачем же их оскорблять!» Впрочем, это сказка про белого бычка - про таланты, отданные России...
Вот, пожалуй, и все, что я хотел тебе сегодня рассказать. Надеюсь, письма мои доходят до тебя в целости и сохранности. Не удивляйся, что они идут долго. Я на станции отдаю их проводнику почтового вагона, поэтому есть надежда, что местная Галина Борисовна их не читает. Ее друзья интересуются у моих знакомых: о чем это я с ними говорю?.. Страна, в которой мы с тобой живем, очень тесная. Куда ни кинешься, везде одно и то же - прописка, очередь, пьяная харя, «где достать?», зависть, предательство, новостройки, плавленые сырки, райком, план, порядок номеров, тупая скука - только ландшафт другой. И кое-где нет бычков в томате.
Видел одного сумасшедшего. Он говорил про себя, что он – Николай Парфеныч Зотиков, заведующий плодовоовощной базой. А на самом деле он был – Виктор Иванович Самохин, кладовщик той же базы. Какой же был у него диагноз, вы думаете?.. Мания величия. Вы понимаете? Есть цель – и цель. Человек должен остаться верным самому себе. И по самому себе, по той правде, которую искал и нашел в себе, и в себе носит, мерить свои поступки, всю свою жизнь!.. а правду найти очень нелегко. Кто нашел, кто жил по своей правде, по закону своей души, тот спокойно встречает смертный час... Умирать никому не хочется, но человек спокоен: он остался самим собой. В этом его гордость и смелая правда... Я знаю, что мой ребе, реб Мордхе из местечка под Бугом, стоял перед пулями прямой и гордый и молился своему Богу, своей правде... Ах! Не всякий готов к такому, и не всякий верующий! Я, ведь, помню погромы... Нужно быть таким, как реб Мордхе, стараться быть таким. Вот, я и говорю вам: мы, евреи, экстремисты. Темперамент еврейский экстремален. Народы учатся друг у друга, перенимают хорошее близкое, создают прекрасный, как коринфская бронза, сплав своего и близкого соседнего. А еврей? – нет! Еврей, оказавшись в чужой культуре, восхитившись ею, начинает с того, что выбрасывает всё своё! Он отказывается, откидывает, топчет, выламывает из своей души всё, напоминающее, что он – это он, что он еврей. Может быть, мы не можем иначе, но только оплевав всё своё, еврей окунается в другую культуру. Тогда – и только тогда! – он идёт и хватает то, что ему дают чужие. И теперь хватает всё без разбору: годится, не годится! Хватает и ценное, и прекрасное, и железный лом; отходы он тоже хватает. Чаще – отходы, они ярче блестят.
После знаменитой бойни 48-52 годов в здешнем, как ты говоришь, заповеднике не осталось почти людей, умеющих читать и писать на идиш. А газета властям понадобилась. И вот бывший библиотекарь Корчминский стал редактором, директор ресторана Кердман – заведующим отделом сельского хозяйства, зав. хозяйственным магазином Семён Розенфельд возглавляет отдел писем и так далее. Из журналистов – только Илюша Гинзбург да Наум Фридман, оба – старые, измученные, больные. Есть в газете бывшие обыкновенные служащие, бухгалтеры, например, они легко управляемы и не ощущают своей бараньей судьбы «вожаков стада». Такие им нужны.
Но дело не в этом и даже не в том, что идиш в Биробиджане давно стал иностранным языком. Не беспокойся за газету, если ты о ней беспокоишься. «Биробиджанер штерн» будет существовать, пока властям это нужно. Еврейская газета – существенный, если не главный экспонат выставки «Еврейская автономная область». Газета будет.
И не Фридман, так кто-нибудь другой заполнит её переводами материалов ТАСС или АПН. Таких пару-тройку переводчиков всегда найдут. Сами выучат; партия прикажет и выучат. Это вопрос техники.
Ты посмотри, что в ней еврейского, в этой газете? Фамилии еврейские, шрифт еврейский. Язык? Канцелярский язык... Ведь, что переводят? – передовицы из «Правды». Каким языком они написаны, таким языком их и переводят, изгоняя гебраизмы, подбирая немецкие эквиваленты. Мусорный, суконный язык! Идиш ли это?
Всё у нас отняли – веру, культуру, обычаи. А взамен предлагают фарфел в ресторанном бульоне. Мы – как индейцы на Всемирной выставке начала века. Кованый кирзовый сапог выбил душу из моего народа!
Потому все: мы – здесь – чужие. Поэтому не только физическое избиение, но и духовный погром.
А идеологическое обоснование духовному погрому дали люди из Евсекции... Евсекция, вивисекция, селекция, акция... Они оторвали евреев СССР от еврейства и погибли сами – безродные, опустошенные, растерянные... А оторванные от еврейства советские евреи рванули дальше – к еще большей ассимиляции, то бишь русификации. Советская власть сулила им материальное преуспевание. Евсекция внушила, что нет ничего дороже и лучше.
Сначала внешне: язык, манеры... А оглянулись – оказывается, они посередине: к тем не пускают, а от этих ушли...Они и хотели бы теперь чуть-чуть «идишкайт», да видят, что ради этого нужно отказаться от чего-то привычно- уютного, материального. Думаешь – легко?.. Бить таких легко! Так что, еврейства в нашем заповеднике я не нашел. А что такое – еврейство? – мы ведь с тобой не знаем. Я читал много, чувствую это сильно. По-моему, сначала нужно отделить желтое от красного, шесть от пяти, как бы близко это не лежало. Понятно тебе?
Часто встречаю ту гермофродитку. Иногда мне мерещится, что она оббегает по соседним улицам, чтобы выскочить из-за угла. Она вечно пьяна. Говорят, она «пьёт для равновесия...»
Где-то водятся паучки-кровопийцы; они высасывают из живой жертвы кровь, а скорлупу бросают, пустую, жестяно-шелестящую под ветром скорлупу... Тунгусский шаман заарканил оленя на полном скаку и костяным ритуальным ножом надрезал на горле оленьем главную жилу. Брызнула кровь, и шаман припал синими губами к ране. Бьётся олень, а шаман сосёт кровь. Напился шаман, утёрся, замазал лечебным составом рану. Полегчало оленю и, вздрогнув от шлепка. Он гордо понёсся к стаду... На белом снегу шипит горячая кровь...
Как из желтого сделать красное? Горькую желчь как превратить в разбавленный сироп?.. Порез слева, искромсана вера, обрублена надежда, изнасилована любовь. Теперь справа: и не стало прошлого, порвались связи... Хрипит под ножницами жесть. Звякнула о камень. Небо опустилось, загустел воздух, покачнулись коричневые стены. Хохочет хам, расставив ноги. Сошлись под углом две раны, зацепились рваными краями. Рукой в брезентовой рукавице зачерпни масляной краски, замажь блестящие края! Горит краска, шипит на солнце... Мойше, видите? Это ублюдок!.. В лужице возле могилы отражается в свете луны распятый звездой «могн-довид»...
Плачет, плачет скрипочка – а-а-а! Оторвали от любимого, измучили, убили душу. Вот я вернулась, а его нет. Здесь он жил, здесь пел, здесь говорил, что любит меня. Я вернулась, а души моей нет. Плачу я, а слёз нет.
Набухшие молоком соски молодой матери.
Загубленные мечты. Задушенные идеалы. И увядшие в лагерях надежды.
Дети, украденные у матерей и выброшенные в снег.
О, лицо её невидящее и глаза её пустые!
Яростно распяленные плоскогубые рты.
Стена, за которую не пробиться.
И горькие стихи.
Зачем всё это, Мойше? Что же вы, Мойше? Злой чужой ветер воет над вашей могилой. А там, у синего моря...
Тяжела дорога до синего моря. Она идёт через вас, Мойше, эта дорога идёт через вашу могилу, не обойти ей вашу могилу!
Мойше, Мойше!
Где найти мне хороший посук, чтобы закончить мой рассказ?
Старенькая уборщица трёт мокрой тряпкой запыленный цоколь областного музея. В магазины привезли колбасу.
Вспухают под тополями фиолетовые стены редакции «Биробиджанер штерн».
Абрам Вайнштейн, отменный повар, готовит в ресторане форшмак, рубленую печёнку, фаршированную рыбу, тушеное мясо и еврейский золотой бульон. Свежую рыбу готовит Вайнштейн, не мороженную.
Гершков разучивает с оркестром «фрейлехс».
Хая с Максом сочиняют новую песню о счастливой жизни в родной советской стране. Они споют её перед гостями. Нужно успеть показать песню художественному совету!
На своём юбилее плачет от умиления растроганный Корчминский.
По улицам ходят актёры из ансамбля Шварцера и восторженно читают вывески на идиш.
Оседает сыпучий песок над могилой. Распятый «могн-довид» кренится набок.
Умирает сын Гали Блюмкиной, еврейский мальчик, убитый при рождении.
Идёт по дамбе окровавленный, избитый Илюша Гинзбург; без рубашки, босой. Идёт Илюша Гинзбург под ночными звёздами, под ночным ветром, улетающим к могиле Мойше. Идёт Илюша, спотыкается об острые камни и осколки водочных бутылок. Он спускается с дамбы, бредёт по улице Шолом-Алейхема к себе домой. Входит в свой сарай, залезает на ящик, (о, не глядите, отвернитесь!). Горячими слезами плачет Илюша Гинзбург и сует голову в петлю.
Ищите, ищите, люди, хороший посук! Мне нечем закончить мой рассказ!
- Пустите, пустите меня, родненькие! – просит подружек девочка из ремесленного училища. А они бьют её, хлещут по лицу, пинают ногами.
- Ой, сволочи! – рыдает она. – Всё равно убегу, сволочи! Мамочка моя, мама!
А Галя Блюмкина лежит в морге рядом со своей матерью. Лежит двумя грудами то, что осталось от Гали Блюмкиной и матери её, Фрады.
Ой, мамочка моя, мама!
А Фалалеев с сотрудниками ищет сионистов, допрашивает свидетелей, лжет, грозит, уговаривает.
А Панман с Винокуром слушают новые пластинки.
А Корчминский выскабливает с пластинки имя Нехамы Лифшицайте.
В областном радиокомитете стирают с плёнки песни Александровича, Анны Гузик, Клементины Шермель. Кто следующий?
Закрывает загс усталая регистраторша.
Плачет еврейская скрипочка, плачет.
Так найдите же, найдите хороший пасук, чтобы закончить мой рассказ.
Биробиджан-Ленинград-Иерусалим.
Об авторе
Яков Цигельман родился в 1935 году. Детство Якова прошло в блокадном Ленинграде, затем - в эвакуации на Урале. В Перми (тогда г. Молотов) начал учиться в школе. Семья вернулась в Ленинград в конце 1944 года. Закончил школу, затем филологический факультет университета. Преподавал в школе, водил экскурсии по городу и в городских музеях; случалось, что подрабатывал грузчиком...
В 1970–1971 годах жил в Биробиджане, работал в газете «Биробиджанская звезда». Вернувшись в Ленинград, попытался переслать на Запад биробиджанские дневники, в которых содержался правдивый рассказ о состоянии дел в так называемой еврейской советской автономии. Дневники попали в руки КГБ, что повлекло за собой повышенное внимание этой организации к автору и почти молниеносное получение им разрешения на выезд в Израиль...

С 1974 года – в Израиле. В 1977 году роман «Похороны Моше Дорфера», написанный на основе биробиджанских дневников, был опубликован в № 17 журнала «Сион». В СССР роман имел большой успех среди активистов алии.

С 1978 по 2000 работал на радио «Коль Исраэль» редактором и ведущим программ (псевдоним - Яков Ашкенази). Был членом редколлегии журнала «22», работал в редколлегии издательства «Библиотека «Алия», участвовал в семинаре Еврейского университета под руководством проф. Ш. Этингера (семинар занимался исследованием истории евреев СССР). Публиковал статьи в различных русскоязычных изданиях.
В 1980 году в №14 журнала «22» был напечатан роман «Убийство на бульваре Бен-Маймон» (журнальный вариант). Этот ставший хорошо известным в русскоязычной среде роман о жизни в Израиле репатриантов семидесятых годов вышел в издательстве «Москва – Иерусалим» в 1981 году вместе с романом «Похороны Моше Дорфера». В то же время в Ленинграде подпольный еврейский театр Леонида Кельберта поставил по роману «Убийство на бульваре Бен-Маймон» спектакль, который назывался «Письма из розовой папки».
Яков Цигельман умер 24 августа 2018 года. Похоронен на Святой земле.
Сын Якова Цигельмана – раввин в Бней-Браке.
 Яков Цигельман в последние годы жизни
Яков Цигельман в последние годы жизни
Благодарим Яна Топоровского за предоставленные материалы
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2