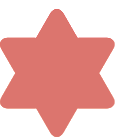12.08.2018
И строю мир себе…
12 августа, ровно 66 лет назад, были расстреляны 13 членов Еврейского антифашистского комитета. В их числе был поэт Лев (Лейб) Квитко.
Конец моей жизни тут перед вами
18 июля 1952 года Верховный суд вынес приговор пятнадцати из 125 арестованным по делу Еврейского антифашистского комитета. Тринадцать из них (все, кроме смертельно больного замминистра госконтроля Брегмана и 74-летнего физиолога Лины Штерн) были приговорены к расстрелу за «контрреволюционную деятельность». Исполнен приговор был лишь 12 августа. На дворе все же был не 1937 год, а между тем дело было настолько шито белыми нитками и носило настолько откровенно антисемитский характер, что сам председатель Верховного суда Чепцов ходатайствовал (безуспешно) о пересмотре приговора. Все держалось на личных признаниях обвиняемых – но на суде часть их взяла свои слова назад...
Это был одни из страшных ударов по еврейскому миру и еврейской жизни в СССР. Но особенно болезненным он был для еврейской литературы. Среди расстрелянных были поэты Перец Маркиш, Давид Гофштейн, Ицик Фефер, прозаик Давид Бергельсон… Все они (кроме, пожалуй, соцреалиста Фефера) – первостепенные классики литературы на идише.

Но Лейб (Лев Моисеевич) Квитко (а речь сейчас пойдет о нем) – пожалуй, самый знаменитый из этой трагически погибшей пятерки. Не самый великий, а именно самый знаменитый… среди не знающих языка. Если не имя его, то стихи и сегодня знает едва ли не любой человек, выросший в СССР. Детские стихи – в переводах Маршака, Михалкова и других.
На суде Квитко сказал следующее:
«Считая советскую еврейскую литературу идейно здоровой, советской, мы, еврейские писатели, и я в том числе (может быть, я больше их виноват), в то же время не ставили вопроса о способствовании процессу ассимиляции... Пользоваться языком, который массы оставили, который отжил свой век, который обособляет нас не только от всей большой жизни Советского Союза, но и от основной массы евреев, которые уже ассимилировались, пользоваться таким языком, по-моему, – своеобразное проявление национализма».
Страшные слова. Писатель кается в том, что писал на родном языке – на языке своего народа. Правда, это единственная вина, которую он за собой признает. Он пытается «реабилитировать» себя как советского человека перед теми, кому поручили его убить.
«Жил я до революции жизнью битой бродячей собаки, грош цена была этой жизни. Начиная с Великого Октября, я прожил тридцать лет чудесной окрыленной трудовой жизни… Конец моей жизни – тут перед вами!».
Лейб Квúтко и Лев Квиткó
Говоря о советском детском поэте, ударение обычно ставят на последний слог. Специалисты по еврейской литературе знают Лейба Квúтко. И это различие символично: перед нами как будто два разных автора.
Объединяет их биография. Квитко родился в крохотном подольском местечке Голосков в очень бедной семье. По документам – в 1890 году, на самом деле, видимо, то ли в 1893, то ли в 1895: сам поэт не помнил свой возраст. Отец был меламедом, столяром, переплетчиком. Очень рано умер. Сын, по собственным словам, «видел школу только снаружи», хотя на самом деле все-таки в хедер недолгое время ходил. В десять лет ушел из дома. Зарабатывал на жизнь чем придется – был маляром, носильщиком, даже помощником коновала.
А потом стал поэтом. Ранний Лейб Квитко – мощный и трагический поэт-модернист, достигающий очень скупыми средствами удивительного художественного эффекта. К сожалению, его стихи той поры, в том числе книга «1919», посвященная погромам на Украине, не переведены на русский язык.
О масштабах его таланта дает представление лишь один перевод, выполненный его современником Григорием Петниковым:
...Вот на чужбине
В комнате играю
И строю мир себе:
Вот маленькое небо,
Едва очерчена луна,
И деревце и веточка
Зеленая какая!
Мое к ней прикоснулось сердце,
Легло –
И отдыхает...
«На чужбине» Квитко оказался в 1921 году. Он жил с семьей в Берлине, работал в советском торгпредстве, выполнял поручения Коминтерна, был членом немецкой компартии. Пребывание за границей тоже было поставлено ему в вину в 1952 году. Но преданность Квитко коммунизму и советской власти была совершенно искренней. И в СССР он вернулся в 1925 добровольно и с радостью. Поселился он в Харькове – тогдашней столице Советской Украины.
Вонючая птичка Мойли и Корней Чуковский
В 1929 году у Квитко начались серьезные неприятности. Он напечатал стихотворение «Вонючая птичка Мойли» – про птичку, которая гадит на все, что видит. Грубая шутка была прозрачной: имелся в виду Мойше Литваков, видный литературный функционер, директор самого крупного еврейского издательства – «Дер Эмес». Расправа не замедлила: Квитко подвергся травле, его перестали печатать. Он совершил отчаянный шаг: пошел на Харьковский тракторный завод учеником токаря. А было ему уже под сорок, даже если принять позднюю дату его рождения.
Но тут – неожиданный поворот. Еще в дореволюционные годы Квитко писал, наряду со «взрослыми», детские стихи. В начале 1930-х он послал книгу своих стихов (в оригинале) Корнею Чуковскому. Вот как тот вспоминал об этом:
«Еврейских букв я не знал ни одной. Но, сообразив, что на заглавном листе, наверху, должна быть поставлена фамилия автора и что, значит, вот эта узорчатая буква есть К, а вот эти две палочки — В, а вот эта запятая — И, я стал храбро перелистывать всю книгу. Надписи над картинками дали мне еще около дюжины букв. Это так окрылило меня, что я тотчас пустился читать по складам заглавия отдельных стихов, а потом и сами стихи!»
Чуковский идиша не знал, но знал немецкий. Маршак, которому он послал книгу Квитко, владел и идишем. Оба были в восхищении. Так и началась большая слава Квитко. Детские стихи его стали широко переводить на русский. Взрослые – понемногу – тоже. Но это были уже другие взрослые стихи, больше соответствующие господствующей в советской поэзии стилистике. Самим собой он большей мере оставался в детских стихах.




Для тысяч наших современников мальчик Лемеле, бабушка Груня и внучок Муня, жучок, путешествующий на щепочке – неотъемлемая часть детства. Не все понимают, что это имеет отношение к евреям...


Антирелигиозная Анна Ванна

Но, конечно, Квитко не мог не испытать влияния эпохи. Одно из самых знаменитых (и действительно прекрасно написанных) его стихотворений – «Хазерлех». «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят…». Прекрасный и очень точный перевод Михалкова. Мало кто из читателей задумывается: а почему для этих пионеров поросята – такая невидаль? Впрочем, для современного горожанина любое сельскохозяйственное животное экзотика. Только вот стихи Квитко написаны до массовой урбанизации. Дети в его стихотворении никогда не видели поросят потому, что они – еврейские дети. А советской власти надо было, чтобы видели!


Писатель и литературовед Г.Эстрайх обратил внимание на одно обстоятельство: большевики боролись с любой религией, но по-разному. В еврейских колхозах (тогда их было немало) активно внедряли свиноводство. В татарских – нет. Зато языки мусульманских народов переводили с арабской графики на латиницу, а потом на кириллицу. А с идишем таких попыток не было.
А что же Квитко? С каким чувством писал он эти строки? Скажем еще раз: он был искренним коммунистом. Не притворялся.
Почему такой дифференцированный подход? Да потому, что легче научить читать по-новому людей, которые в большинстве своем и арабского алфавита никогда не знали, чем переучивать поголовно грамотный народ. И легче привить некошерное животноводство людям, для которых само обращение к сельскохозяйственному труду – знак разрыва с традицией, чем ломать столетние крестьянские привычки.
Возвращение или первая встреча?
В 2015 году издательство «Книжники» переиздало единственный роман Квитко «Лям и Петрик». Перевод старый, советский, так что можно говорить о «возвращении». Но это совсем не тот Квитко, к которому мы привыкли. Роман – о собственном детстве. Но то, что в свое время перевод вышел в детском издательстве – недоразумение. В книге идет речь о недетских, мрачных и грубых вещах, и написана она жестко. И при том – полна обаяния.
А настоящая, первая встреча русскоязычного читателя с его лучшими, ранними стихами – еще впереди. Будем надеяться, что ждать недолго.
Валерий Шубинский
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2