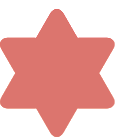03.11.2020
Витебск. Ленинград. Из мемуаров Вульфа Ланина
Читатель нашего портала Борис Геннадьевич Трубников прислал нам главы из мемуаров своего родственника (дедушки жены) - Вульфа Соломоновича Ланина (1899-1977). С удовольствием их публикуем. Это текст, обладающий исторической достоверностью и литературными достоинствами. Вульф Соломонович рассказывает о своем отце-музыканте, ставшем бухгалтером; о Витебске до Первой мировой войны; о персонажах, населявших Замковую улицу; о блокаде Ленинграда и работе в электроцехе...
ЖИЗНЬ
(Очерки)
Избранные главы
 Ланин Вульф Соломонович
Ланин Вульф Соломонович
Ленинград. 1968
ГЛАВА ПЕРВАЯ
НАЧАЛО ВЕКА
Генеалогия
Про свою родину отец рассказывал скупо, без восторженности и сантиментов.
Город как город, не хуже других уездных городишек.
Были в городе костел, две приходских церкви и замшелая, старинного мавританского стиля синагога.
Раскинулся Мстиславль на холмах, вблизи реки Сож.
Крытые гонтом деревянные домишки рассыпались по кривым улочкам и переулкам. На площади базар, затрушенный сеном.
Народ перебивался торговлишкой да разными обиходными ремеслами.
В ремесленной управе дед был старшиной. От предков дед унаследовал профессию чеканщика по серебру и золоту и самоучкой освоил часовых дел мастерство.
У отца, как и старших его братьев, не было склонности к кропотливому труду чеканщика, тем более что к тому времени ремесло это едва оправдывало средства к существованию.
В базарные и ярмарочные дни бабушка подрабатывала в роли менялы. В те времена, когда по рукам ходили австрийские талеры и польские злотые, голландские гульдены, империалы и полуимпериалы царской чеканки, была и такая профессия – «менялы», у которых можно было разменять на ассигнации и самородное и бытовое золото.
Сырье на чеканку, в основном серебро и золото, поступало от заказчиков-купцов из Могилева, Смоленска. Для них же проводилась операция размена за оговоренное комиссионное вознаграждение.
При большой семье доходов хватало лишь для того, чтобы «прикрыть стыд», на крупник по будням и на фаршированную щуку на субботний день.
Окончив городское четырехклассное училище, отец не прельстился укладом уездного обихода и использовал единственную возможность повидать «белый свет», поступил на работу в симфонический оркестр, которым дирижировал его старший брат. Эта работа не была влечением, а лишь временным этапом на жизненном пути.
После женитьбы отец сменил профессию музыканта на прозаическую, но более обеспеченную - профессию бухгалтера.
Случайный этап на бродяжьем пути музыканта – город Витебск, стал его второй родиной.
Контракт на роль второй скрипки в оркестре Городского театра отец стал совмещать с работой бухгалтера в торговой фирме Ритевского, а затем, почувствовав себя в родной стихии, и вовсе стал профессиональным бухгалтером.
Мать, уроженка города Рига, окончила школу при фарфоровой мануфактуре купца Кузнецова , приобрела навыки рисовальщицы и рукодельных дел мастера.
В помощь отцу мать промышляла рукодельными изделиям, не очень художественно рисовала, но все же обладала каким-то природным дарованием в этой области.
Шли годы, разрасталась семья.
Вскоре уж отец зарекомендовал себя в Витебске как квалифицированный бухгалтер.
Проработав недолго бухгалтером на сургучной фабрике, он перешел в 1899 году на маслобойный завод Свердлина и Мнухина, где и оставался до 1926 года.
 Маслобойный завод в Витебске. Лишь на год отец уезжал в г. Орел, где, работая управляющим, произвел реконструкцию маслозавода №33 (бывшие заводы братьев Тиссовых и братьев Калашниковых)
Маслобойный завод в Витебске. Лишь на год отец уезжал в г. Орел, где, работая управляющим, произвел реконструкцию маслозавода №33 (бывшие заводы братьев Тиссовых и братьев Калашниковых)
 Маслобойный завод в Орле
Маслобойный завод в Орле
В 1926 году отец с матерью переехали в Ленинград, где к тому времени уже жили их дети: я, мой брат и две сестры.
Старшая сестра Поля, в 1917 году выехавшая на родину мужа, вместе с семьей жила в городе Свенцяны Виленского воеводства в Польше , на родине мужа Коварского.
 Ланин Соломон Евсеевич
Ланин Соломон Евсеевич
 Семья Ланиных: Ланина (Бельская) Элла Соломоновна, Ланин Рафаил Соломонович, Ланина Юдифь Соломоновна, Ланин Исаак Соломонович, Ланин Вульф Соломонович
Семья Ланиных: Ланина (Бельская) Элла Соломоновна, Ланин Рафаил Соломонович, Ланина Юдифь Соломоновна, Ланин Исаак Соломонович, Ланин Вульф Соломонович
РОДНОЙ ГОРОД
Родина
Где она Палестина,
Где страна обетованная?
Нам чужие сионские выси
И святая «стена плача».
Здесь, где свои погосты,
Соленые слезы родней.
Здесь мы не гости,
А стали хозяева на земле,
Потом и кровью политой.
Бывало не в тепле,
В жизни, часто в голоде прожитой,
Было все-таки немало и радостей,
И звание гражданина
До самой старости
Самое высокое звание земли (....)
В.Ланин
До Кракова –
Ровно сорок,
И до Варшавы –
Сорок.
Но лучше, чем всякий город,
Свой, родной город.
Разве дворцом сломите
Маленькие заплатанные,
Знаете, домики,
Где мы смеялись и плакали?
Вот вам
И меньше, и больше.
Каждому свой мессия!
Инспектору
Нужно Польшу,
Портному –
Россия.
(Иосиф Уткин «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох»)
ВИТЕБСК
По преданию доходили в древности до города римские галеры. По Двине добирались до Витебска ливонские рыцари, плавали в Витебск ганзейские купцы из Риги.
В древности населяли край кривичи, обитали у озерных урочищ чудь белоглазая, да финно-угорские племена.
Еще до самой революции народ чтил Перуна и каких-то еще древних богов.
Княжили в Витебске князья Полоцкие.
От средневековья оставались еще на левом берегу Двины, при впадении в нее реки Витьбы, руины замковых построек.
Напоминало о древних временах название главной улицы «Замковая». Замковая улица, упиравшаяся в отлогий берег реки Западная Двина, с севера примыкала к реке Витьбе, а на юго-востоке отделялась протокой, впадавшей в Двину.
Центр города представлял в древние времена естественное укрепление.
Все же войска Наполеона сравнительно легко овладели городом, так как русские войска вели в Витебске лишь арьергардные бои.
После князей владычили в городе униатские епископы, да царские воеводы.
Народ бунтовал и против епископов, и против воевод, но каждый раз отдавался под власть Московского сильного государства.
После Унии оставались немые свидетели – Успенский собор, превращенный в православный, и старинный костел Святого Антония.
Раскинулся город по обе стороны Двины и раздался вширь.
На правобережье – вокзал, железная дорога, фабрики, заводы, торговые улицы и лабиринты кварталов и слободок.
На левобережье – в центре – гимназия, коммерческое и реальное училища, духовная семинария, театры, присутственные места.
Небольшие трамвайные вагончики неторопливо возили витеблян из района в район, действовали водопровод и канализация, так что, в общем, город был не хуже другого десятка губернских.
ДВИНА
Зажатая левобережным косогором Двина на повороте течет напористо, подмывая высокий берег.
Кружевит вода на зыби белыми гребешками.
Вода жестковата, да вкусна.
В тихую погоду на дне просвечивают стайки плотвы, уклеек, пескарей.
Расколола река город пополам.
Старинное левобережье – Замковая часть с кафедральными соборами, костелами, синагогами.
Двухэтажное левобережье разбежалось улицами, переулками меж оврагов, зеленью садов, огородов.
На левобережье, над думой, башнит каланча.
На Успенской горе, береговом косогоре, губернаторский дворец, а к нему поближе, на соседних улицах, казенные присутствия, почта и на Конной широкой площади, за высоким частоколом – тюрьма.
На правобережье дымы заводских труб, паровозов, уходящие за горизонт ленты Полоцкого и Городокского шоссе, ажур виадуков и мостов, лабиринтная путаница улиц и переулков и синь сосонников.
 Городокское шоссе нач ХХ в.
Городокское шоссе нач ХХ в.
 Городокское шоссе нач ХХ в.
Городокское шоссе нач ХХ в.
 Полоцкое шоссе
Полоцкое шоссе
Мост на излучине перегородил арками реку на пенные струи.
В половодье плавят по Двине гонки. Надрывно скрипят в уключинах дрыгалки, выгребая баграми на душегубках – смоленых долбленках встречают плоты перехватчики – лоцмана.
Мужики плотогоны, бородатые мужики с Каспли, Торопы, крестятся на золоченые купола Успенья, переступают по соломенному мату с тяжким охом-издохом:
- Пронеси и спаси, Господи...
Летом на Двине пересвет пароходных огней, треньк балалаек на лодках, надрывный напев гармошки.
В сумерках на лодках костры. Летит метелица и, обжигая крылья, падает на жаровню. Будет наживка, будет рыба.
Плещут на перекатах и в омутах щуки. На отмелях теплыми июньскими ночами пасутся сомы.
Течет в далекую Балтику Двина. Река – кормилица, река-возница течет через пороги, широкие плесы, забирая на пути десятки речушек, Двина широко разливается в устье.
Летом на зачаленных плотах и пляжах гомон купальщиков, детские звонкие голоса.
Плывут по реке, распустив прямые и косые паруса лайбы.
Зимой на Двине звенят бубенцами обозы. Гремит музыка на катках.
В воскресные, зимние дни сходятся стенка на стенку Заручевье и Русь, две окраины. Русь – плотогоны, огородники, кряжистые мясники и гуртовщики. Заручевье – кожемяки, перехватчики, кузнецы, портные, крючники.
Двина делит город и дружит людей. На Двину приходят в праздник на гулянку, а в будний день на работу.
Плывут по Двине гонки и пароходы, и люди вдогонку шлют пожелания «счастливого пути».
ВИТЬБА
Все на земле изменяется, все скоротечно, всего же,
Что ни цветет, ни живет на земле, человек скоротечней;
Он о возможной грядущей беде не помыслит, покуда
Счастием боги лелеют его и стоит на ногах он;
Если ж беду ниспошлют на него всемогущие боги,
Он негодует, но твердой душой неизбежное сносит.
(Гомер «Одиссея»)
На Витьбе три мельницы, три плотины, замшелые, покрытые бирюзовой тиной. Три плотины: Туловская , Гуторовская, Задуновская. Между плотинами разлилась Витьба тростниковыми заводями. Заводи поросли белыми водяными кувшинками.
В заводях вода парная, прогретая солнцем. В камышовой поросли юркие стайки плотвы, пескарей. По утрам над заводями клубятся туманы. Вечерами в зарослях вербы, березняка и ольхи пересвист птиц, и вперемежку тарахтит бессонный бродяга коростель.
Гуторовское поле, холмистое, бесплодное и глинистое, покрыто низкорослой травой, мелкой ромашкой, сурепкой, лютиками.
 Гуторовщина нач ХХ в.
Гуторовщина нач ХХ в.
В поле ольховые заросли, болотистые осоковые озерки и болотца.
Дно Витьбы песчаное, а у берегов чуть илистое. В жаркие дни вода прохлаждает, но не холодит, не сводит судорогой, а вечерами, вода, прогретая солнцем – парная, и только на глуби чуть холодноватая.
На пляжах Витьбы всегда оживленно. Далеко слышен гуд человечьих голосов, звонкий юношеский смех, гулкий всплеск саженок.
ЛУЧЕССА
Лучесса течет через лесные побережные заросли, через луговые поймы.
На берегах чащобы орешника, лозняка, вербы, розовая гуща шиповника.
Течет Лучесса через перекаты, разливается полноводными плесами. Местами бродная, местами омутная в непроглядной черноте глуби. По перекатам вода стремительная с белыми кружевными гребешками.
Течет Лучесса сквозь лесные угодья, заливные луга, мимо пашен, деревушек, кружит по ряби опавший лист, прелый хворост. Солнце золотит воду, поблескивая на ряби волн, переливается вода перламутровым блеском.
Духмяное сено, дурманные запахи мяты и горечь полыни, сладковатый нектар клевера и Иван-чая замешаны знойным ветерком.
По опушкам леса, по ляду разбрелась пестрядь стада.
Стрекот кузнечиков, заливистая трель жаворонка, парящего в поднебесье, июльская жарынь славят жизнь радостным гимном.
На Лучессе бродит юродивый Матвей. Матвей кудлатый, обросший щетинной рыжей бороденкой. На Матвее рваная посконная рубаха, холщовые, домашнего рядна штаны.
Матвей ходит по кускам, побирается по окрестным деревням: Барроникам, Аксановке, ближней архиерейской усадьбе.
Говорят, хлопнуло Матвея в Японскую шимозой. Пришел с войны, родные его не то вымерли, не то родным самим есть было нечего, и остался человек без приюта и надела. Никому ненужный человек.
Прижился Матвей в заброшенной бане на Аксановском ручье. В народе бытует суеверие, что нанялся Матвей к «Омутному» – к тому, кто на вечерней заре ухает и стонет на пустынных плесах Лучессы.
За кусок ржанины, за кружку квасу Матвей спляшет и споет немудрящую частушку, забавит деревенских парней.
Зимой буран сугробит баню, гудит ветер в зарослях ивы, и даже Матвея берет тоска. Тогда идет Матвей в деревню, в избы за сугревом, за людским словом.
ЗАМКОВАЯ УЛИЦА
1912-1914
На закраинах тротуаров, между булыжин мостовой желтеет жухлая трава.
Лениво позванивают трамвайные вагоны на маршруте: вокзал – Смоленский рынок . По требованию пассажиров трамвай можно остановить в любом месте. Кондуктор, обслуживая пассажиров, соскакивает с моторного на прицеп и обратно.
 Замковая улица нач. ХХ в.
Замковая улица нач. ХХ в.
 Смоленский рынок. Нач. ХХ в
Смоленский рынок. Нач. ХХ в
У гостиницы Кушнера поджидают пассажиров извозчики. Дремлют на козлах кучера, жуют из торб овес лошаденки.
 Гостиницы Бристоль и Кушнера. Замковая ул. Нач. ХХ в.
Гостиницы Бристоль и Кушнера. Замковая ул. Нач. ХХ в.
На извозчичьей бирже наизготове и лихачи. У лихачей запряжка – рысистые горячие лошади. Лихач, отчаянный, рисковый любитель быстрой езды, мчит загулявшего с случайной дамой офицерика, с азартом гонщика. Сыпятся из-под копыт искры; постовые городовые едва успевают проводить взглядом седоков.
Зимой в голубоватом пламени газовых фонарей, у колбасного магазина Реблинга, кружатся в колдовской фантасмагории серебристые снежинки.
 Колбасная Реблинга на Вокзальной улице. Нач. ХХ в.
Колбасная Реблинга на Вокзальной улице. Нач. ХХ в.
Дефилируют гимназисты в серых шинелях, разукрашенных двумя рядами никелированных пуговиц. Чинно идут гимназистки в песцовых и лисьих шубках. С нарочитой военной выправкой не идут, а маршируют офицеры Сотого Островского полка.
Аборигены Замковой улицы, всегда пьяненькие огарки: Стаська и его напарник по прозвищу «Чиновник». Оба в живописных отрепьях, но у «Чиновника» на голове дворянская фуражка с красным околышем и синим верхом.
Стаська обращается за подаянием на французском:
- Pardon monsieur, s'il vous plait quelque d'argent (Извините месье, пожалуйста, немного денег), - и получив dans la vin (на вино) раскланивается, - Je moute mon verre, à votre santé, Monsieur (Madame), Au revoir (Я подниму мой стакан за Ваше здоровье, Месье (Мадам). Mille pardon, Messieur (Madame) (Тысяча извинений, Месье (Мадам).
«Чиновник», сутуловатый пьянчужка, бредет несколько позади Стаськи и, провожая милостицев, берет под козырек залихватским жестом «бывшего».
Оба приятеля торопятся утолить жажду в ближайшей монопольке.
На углу Смоленской, у входа на лестницу ведущей на откос Витьбы, еще один абориген Замковой улицы – «Мешугене Берта» – Сумасшедшая Берта. Берта гнусавит, монотонно, с ею самой заданным ритмом:
- Подайте милостыню, люди добрые».
Одета Берта в невообразимые лохмотья, на отечном лице сверкают глаза с ошалело бегающими зрачками. Берта – профессиональная нищая, прохожие, которым она примелькалась, это знают, и все же бросают в оловянную миску гроши, копейки. «Сумасшедшая Берта» – привычная деталь уличного пейзажа, и в редкие дни, когда она не выходит на промысел, в ансамбле улиц ее явно не хватает.
Ранним утром на берегу Двины появляется Шайя-дровосек. За ним, припадая на искалеченную лапу, ковыляет его напарник – кудлатый рыжий пес Букет.
Шайя моется с ближайшего, зачаленного к берегу плота. Букет ложится на его одежду, положив свою кудлатую, окривевшую на один глаз голову, на лапы. Глаз, однако, зорко следит за хозяином – как бы чего не случилось. Подпрыгивая на скользких бревнах плота, Шайя одевает латаные лоскутьями штаны, надевает продранный в локтях пинжачишко и подпоясывается веревкой. Веревка эта одновременно и орудие производства, так как на ней Шайя носит дрова хозяйкам.
Остальные орудия производства – пила и топор – завернуты в холстину, а в холщовой сумке хранится подпилок, точильный камень, разный снаряд.
После утреннего туалета хозяин и собака завтракают. Завтракают солидно, не торопясь. Завтрак большей частью кусок хлеба, шматок колбасы или колбасных обрезков, а то и кусок мяса с сюрпризом для Букета в виде мозговой кости.
Наевшись, Шайя икает, что свидетельствует о полном удовлетворении аппетита. Букет у уреза воды запивает свою долю жестковатой двинской водой.
Наевшись, оба ложатся в бурьян, растущий по склону берега, и наслаждаются утренним ласковым солнцем.
Здесь в бурьяне находят Шайю хозяйки и рядят его на работу.
Кроме платы перепадает Шайе и тарелка супа, да и Букету плеснут в миску. Если хозяйка скупится, Шайя не забывает отлить из своей доли в чашку, которую в этих случаях извлекает из своей торбы.
Букет равнодушен к окружающему миру и не проявляет интереса даже к своему собачьему племени. Но, равнодушный к окружающему, Букет звереет, как только кто-то угрожает или же просто непочтительно разговаривает с его хозяином.
Жили-были человек и собака и горемычили оба на белом неуютном для них свете.
Мадам Галкина открыла на Замковой необычное заведение «Оригинал-Биоскоп». За пять копеек здесь показывали Нижегородскую ярмарку, коронацию и серию красавиц в пикантных позах. Главные завсегдатаи Оригинал-Биоскопа – мальчишки, пользующиеся скидкой, и сероватый мещанистый народишка.
Кинематограф «Иллюзион», открытый на Замковой, купцом Элькиным, в прошлом бродячим шарманщиком, сразу приобрел популярность. В «Иллюзионе» шикарные фойе, антракты между частями и инкрустированный диким камнем фонтан в курительном зале. В программе сеанса: дивертисмент, видовая, Пате-журнал – Все вижу – все знаю (с петушком, фирменным знаком Пате). На последнем сеансе для избранной публики – фарс с раздеваниями.
На Замковой банкирская контора «Вишняк и сын». «Вишняку и сыну» фактически принадлежат трамвай, электростанция, городской водопровод.
Купцы с Замковой патриархальны и солидны. За грош, недоданный ему кредитором, горло перегрызет, но с покупателем предупредительно вежлив. Преуспевают мануфактурщики, владельцы колбасных.
Частые посетители Замковой землевладельцы. Землевладельцы сдают принадлежащие им земли в аренду под домовые застройки, а неудобные земли сдают под огороды на посев капусты, огурцов и разные подгородные овощные культуры.
Землевладельцы Косовы, Свентицкие, Сулима-Самуйло, Лисовский и прочие более мелкого масштаба приезжают на Замковую в собственных выездах. Иногда запряжка цугом, а большей частью пара одномастных лошадей. Зимой обязательно медвежья полость в ногах и сетка с кистями на лошадях.
 Усадьба Свентицких
Усадьба Свентицких
Землевладельцы – негласные хозяева города, хозяева всему народу, что ютится вблизи их вотчин.
Сановники города: губернатор барон Гершау фон Флотов, вице-губернатор барон фон Розен и полицмейстер фон Браун проезжают по Замковой с видом властелинов судеб вверенных им вассалов.
Портной Мальцин был пионером автомобильного транспорта. Извозчичьи лошади, почуяв конкурента, вставали на дыбы, ломали оглобли и в ужасе мчались без пути и дороги.
В дни тезоименитства «его величества», в табельные дни, построенные шеренгами солдаты Сотого Островского полка, равняли строй. Синели солдатские лица, мерзли пальцы на ногах.
Любопытных, городовые осаживали назад, лихо орудуя ножнами шашек.
На собственных выездах прибывали на молебен действительные, тайные и статские советники с плюмажами на треуголках. Шевствовали с супругами почтенные и покорные слуги «его величества» коллежские асессоры, титулярные советники.
После обедни парад войск. Четкая дробь ружейных приемов, звонкий мерный топот солдатских сапог, чеканно отбивающих шаги. Равнение, равнение, кажется. Шеренга спаяна невидимой цепью. Левой-правой, ать-два, ать-два, шире шаг, ать-два.
Идут солдаты, лихо салютуют шашками офицеры:
- Ура-а-а, Ура-а-а.
А помороженные лица солдат суровы и неприветливы. Парад для солдат мука. Бессонные ночи, муштра и неизвестность мучают солдата.
Вечером на Замковой – гирлянды огней от зажженных плошек. Плошки заполнены ворванью. Ворвань издает основательное зловоние, но гасить плошки нельзя.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПЕТРОГРАД – ЛЕНИНГРАД
Врангель, Семенов, Булак-Балаховский, пилсудчики, басмачи, где фронтом, где налетом атакуют Советскую Россию.
И все же!
20 августа 1920 года Совет Народных Комиссаров постановляет: «Откомандировать бывших студентов из рядов Красной Армии для прохождения образования...».
Мы прибыли в Петроград попутными эшелонами, в шинелях, опаленных огнями походных костров, с вещмешками в которых только смена белья, мыло, зубная щетка и зачерствелая буханка солдатского хлеба.
 Ланин Вульф Соломонович
Ланин Вульф Соломонович
В Петрограде умирали от бескормицы лошади.
Осенью двадцатого года за городом горели торфяники, и горький дымок гнало ветром на невские мосты. На Марсовом поле поленницы дров и рогатки – недобрая память о Юдениче. Между торцов на проспектах трава, и жители ближайших домов выпалывали ее, отрабатывая домовую трудоповинность.
Овсяная лепешка, выпеченная пополам с половой, стоит несколько миллионов. Магазинные витрины закрыты жалюзи из волнистого железа или забиты досками. Дрова нормируют пудами, взвешивая на десятичных весах.
Не дымят заводские трубы, и только вечернее солнце засвечивает запыленные окна безработных заводов и фабрик. Солнце засвечивает и окна Зимнего дворца и Эрмитажа, устраивая фантастический праздник света, оживляя необитаемые здания.
А по городу бродят мечтатели, покоренные красотой величественной Невы, ее набережных, вязью решеток.
В нетопленных аудиториях стынут руки, от недоедания и авитаминоза многих мучает фурункулез, но места в аудиториях занимаем заблаговременно. Еще для профессуры состав слушателей диссонировал с привычным представлением о студенте, времен, когда Электротехнический институт был институтом для благородного сословия, когда студенческие аудитории блистали золотом наплечников и надраенными пуговицами кителей.
Но аудитория контачила, выражаясь профессиональной терминологии электротехников. Новые, красные студенты, каким-то шестым чувством схватывали логику дисциплин, переваривали, перемалывали содержание лекций, мучительно, расшифровывая формулы, и учились увлеченно. Новые студенты пришли за знаниями, за очень нужными знаниями, которыми нужно было овладеть. Страна ждала своих советских специалистов.
Надо было учиться, и еще надо было жить. А в двадцатых годах студенческая стипендия – червонец. Его хватало на десяток дней самому расчетливому студенту.
Грузили «чернослив» – каменный уголь, после которого неделю не отмывалась въедливая угольная пыль, катали тачками из барж сплавные тяжелые дрова, монтерили, подрабатывая к стипендии в студенческих артелях Кубуча.
Донашивали красноармейское обмундирование. А оно уже латано и перелатано так, что неудобно в институт ходить, и вообще, жизнь все больше становилась штатской, и галифе выглядело анахронизмом.
Проблема нелегкая, загонявшая в краску, даже посуровевших на войне парней, когда предательски прорывались брюки на самых интимных местах. Прошли и через это, урывая от сна часы, грызли гранит науки.
Шли годы, многие из тех, кто в звенящие «двадцатые» пришел в ВУЗы, пройдя испытания трудных лет, вписали в список своих трудовых дел участие в великих стройках, в прогрессе техники и культуры.
А жизнь была не очень легкой и не всегда сытой.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
БЛОКАДА
Носилась в воздухе сладкая гарь, подорванных бомбежкой Бадаевских складов. По улицам и переулкам суматошился народ.
Прохрипели репродукторы:
- Воздушная тревога!
- Граждане, воздушная тревога! – завыли протяжным воем сирены.
В наступившей тишине слышен был рокот авиационных моторов и мерный стук метронома в репродукторе.
Бомба с завывающем клекотом жахнула в здание типографии «Правда» . Взрыв сдетонировал через хаос крыш, брандмауэров, сутолоку флигелей, отражаясь от стен. Стекла вылетели, зазвенев стеклянным боем, и квартира, засыпанная осколками, покореженными рамами, стала нежилой.
Седьмого ноября в лабиринте улиц закружил снег. Еще мокрый, слякотный. Снег пал на стылую землю и заледенел гололедом.
Стояли с отцом в пыльном просвете, сочившемся в комнату сквозь битые окна. В окна врывалась ноябрьская стужа.
Отец, растерянный и потрясенный, оглядывал покрытые осколками стекла столы, диваны, пол:
- Как жить?
Створки рам покачивались от ветра, полотнища занавесей парусили, усугубляя зрелище разрухи.
Жители подвергнутых бомбежке кварталов переселялись. Переселение самостийное, неорганизованное, просто перемещались из одного района в другой, поближе к родственникам, знакомым, к местам работы.
На Кировском проспекте было поспокойней, хотя Петроградская сторона страдала от бомбежек не меньше.
Снизили норму хлеба, не стало продуктов, началось испытание голодом.
Передать ощущение голода, право, очень трудно.
Вначале хочется кушать. Потом это чувство немного тупеет, рецидив приходит в минуты отдыха.
Разве можно было себе представить, чем может человек кормиться: желе из столярного клея, «сурза-варза» или кисель из декстрина, оладьи из вымоченной горчицы, кетгут – бараньи кишки, заготовленные на хирургические нитки и пролежавшие в растворе лет десять с лишком, макуха – жмых, пивные дрожжи, одуванчики и т.п.
Под грохот бомбовой канонады шутили:
- Ведро воды – эквивалент пяти граммов жира.
Тележки с хлебом конвоировали солдаты, вооруженные автоматами. За хлебом терпеливо выстаивали в очередях. Выстаивали за нормой по рабочей карточке 250 граммов и 125 по иждивенческой.
Хлеборезы подают хлеб через маленькое окошечко, через которое проходит только ладонь. Оберегаются экспроприаторов. Схватит пайку и озверело глотает, не обращая внимание на побои, пинки. Экспроприатору грозит самосуд, а при вмешательстве патруля и кое-что похуже.
Пайку хлеба делим на три части: побольше – на завтрак, поменьше – на обед и больше меньшего – на ужин. Обеденный хлеб лучше сэкономить, ограничившись половником хряпы и тремя ложками твердоватых, плохо проваренных соевых бобов.
Применяются следующие способы употребления хлеба: поджарить ломтики хлеба на раскаленной вьюшке буржуйки, изготовить «мурцовку», т.е. накрошить хлеб в кружку с кипятком, посолить, круто поперчить и кушать, вычерпывая ложкой, и, наконец, просто есть хлеб «натурель».
Но все равно, чтобы продлить удовольствие, прежде чем проглотить кусочек хлеба, надо насладиться, для чего прожевывать по возможности медленно, верней, хлеб должен во рту таять.
Но сколько нужно выдержки, чтобы удержаться от соблазна и не съесть всю пайку, ведь есть так хочется, ах, как хочется есть.
Гурманы, вспоминавшие изысканную еду мирного времени, рисковали подвергнуться суду Линча и все же собирались у камельков, вспоминали сорта хлебобулочных изделий: формовой, круглый, морской, рижский, серый, пеклеванный, заварной. А булки, какие чудесные были булки: золотистые батоны, витые халы, соленые сайки, слойки.
А народ, мудрый народ, все испытавший, метко сформулировал муки голода:
- Голод не тетка.
- Коль доживу, - говорил мой сосед по казарменной койке, - буханку хлеба нарежу ломтями, посолю круто и есть буду, пока не вспотею или не околею.
Мечта о хлебе – фата-моргана блокадной жизни была самой прилипчивой мечтой блокадных доходяг.
По ночам с голоду мочегонит. Из надышанного тепла выбираться неохота. На дворе лунный миражный свет, морозная стужа, снеговой скрип. Глухой орудийный раскат на юго-западе. В заиндевевшем помещении стынет вода. Сон забывчивый, дремотный и несугревный. Стынут ноги, хотя и не разутые. Под утро, под сумеречный рассвет одолевает сон, будто проваливает в пропасть.
С рассветом оживают люди, не торопясь бредут на рабочие места, поеживаются зябко, пока не расправят поджатые плечи и руки. Работа зовет человека: возись, таскай, пили, коли. Работают – делают дела нужные и ненужные – заняты. За работой не так грызет человека тоска, и чувствует человек – вроде нужен! А главное, нужен человек и самому себе.
Время трудное и работать голодным, отекшим – физически трудно, но надо выстоять, выдюжить, продержаться, пробиться.
Каждое утро слушаем сводку, мерный стук метронома в репродукторе. С надеждой ждут: выбьют немца из Мги, прорвут блокаду, добавят хлеба.
А из-под Красного Села, Ропши, Пулкова бьют дальнобойные немецкие батареи. «При артобстрелах эта сторона улицы опасна», надписи не производят впечатления, так как собственно, если уж попадешь, то и другая сторона опасна.
Штат электроцеха – в основном отбракованная военкоматом интеллигенция. Освоить ручник, пассатижи и отвертку для них задача сложная. Квалифицированных монтеров по сути два: Михаил Николаевич Калинин и горбатенький Васильев.
«Интернат» все же делает план. Монтируем электрику (как грамотно выражается директор завода Бибиксаров) на тральщиках: шестьдесят третьем «Ристна», санпропускнике «Анохине». Еще обслуживаем цеховое оборудование и сети.
Пришлось полностью переселяться на завод. Николай Гаврилович умер четвертого ноября 1941 года. Похоронили старика на Серафимовском еще по обряду и обычаям.
Вести монтаж на судах трудно, стынут руки на морозном ветру, тупые дрели не берут переборок, да и квалификация монтеров единственно на что годится – «поднять да бросить».
Вечерами проходим военное обучение на Петровской косе и в подвалах «Новой Баварии». Все мы зачислены в отряды самообороны.
Завод обесточили. На территории непривычная тишина. Заглох привычный шум станков, не слышно трескотни пневмоинструмента, шипения сварочных дуг.
Заводские здания с потухшими окнами покрылись искристой шубой инея, засугробилася снежными завалами территория.
Дни сменяют ночи. Тревожные дни, тревожные ночи. Жизнь идет под заунывный аккомпанемент сирен, монотонный ритм метронома трансляции, под лающие залпы зениток.
Гуд «мессершмиттов» и мерный стрекот наших истребителей уже отличительно знакомы.
Отогревая руки у времянки, в которой курятся полусырые шпалы, монтируем дизель-генератор. Дизель-генератор – крайняя необходимость. Народ гнетет стужа, безмолвие и темень.
Но, как объект, дизель-генератор, вроде поручика Киже из известной повести Юрия Тынянова, «титула» не имеет. Работа ведется без фондов и финансирования.
Михаил Николаевич Калинин вручную сверлит в панели щита отверстия под приборы и аппаратуру. Работа тяжелая, в местах сварки не берет и зубило. Чередуемся с Михаил Николаевичем, чертыхаясь от нетерпения.
- Работка, та работка... - во время пауз бормочет в усы Калинин.
На проходе дрели лицо Миши краснеет, глаза мечут злые взгляды. Михаил Николаевич отходчив, долго злиться не умеет, да и притом Калинин – рабочая косточка, понимает, надо сделать. Ну, а трудности, видать, у Калинина в жизни бывали.
Руки примерзают к шведкам, гайки и болты не расхожены, но работа понемногу двигается. Ведем ошиновку, коммутируем приборы.
Серьезная задача – стакелажить генератор на фундамент. Зачалили тали за нижние пояса ферм, а пояса от рывка гнутся, уже порваны две связи.
- Огребем полундру, - смущенно говорит Калинин.
- Подождите, Михаил Николаевич, не паникуйте, давайте думать!
- Думал индюк, да попал в лапшу, - подогрел ситуацию кто-то из подсобников, - Как бы кровля не загремела, тогда будет совсем труба.
- Не труба, а трибунал, - подумал я про себя, - Да еще и «титула» у дизельной нет.
- Оттягиваем фермы оттяжками, подержим стрелу против деформации, - сформулировали выход из положения.
Завезли лебедки, усилили связи распорками.
Генератор такелажили по дюйму в осьмушку часа, прислушиваясь к поскрипыванию ферм, приглядываясь к горизонту поясов. Такелажили, приготовившись в любую секунду отскочить в безопасный пролет.
- Как нервишки? – спросил бригаду, беспокоясь за исход подъема.
- Сдюжим, руководствуй, начальник, - бодро ответил Калинин.
- Последний заход, вира помалу, - генератор подвис на стропах, и подталкивая его, как доброго друга, захмелевшего на вечеринке, осадили на фундамент.
Вздохнули и обмякли, уставшие. Холодный пот струйкой затекал за ворот ватника.
Через пару дней проложили через заводской ковш кабель, завели на шины подстанции.
Была еще трудность: подать соляр, воду, закачать в баки.
Пошел дизель, постукивая движением, попыхивая дымком. На знакомый стук подходил народ, смотрел на работающую машину, дивясь знакомой машине, как диковинке. Бывает, что через несколько лет перечитываешь знакомую книжку, а понимаешь ее совсем по-другому, одним словом, переоценка ценностей.
- Рубай, - включился рубильник. Подали возбуждение, стрелки вольтметров поползли вверх по шкале.
- Рубай, - зажглись контрольные лампы, вспыхнул свет под перекрытием дизельной.
Ток пошел в сеть, индуктируя ободряющий ток надежды, мол, самое плохое позади, оживали люди, оживал завод.
В готовую дизельную пришли мотористы дивизиона тральщиков. Как говориться: «кто платит, тот и заказывает музыку», а дивизион дает соляр, дает смазку. Обеспечен электрической энергией и караван.
Энергия действовала, как действует камфара на тяжелого больного. Хоть и на голодном пайке, но заработали цеха.
ЛАДОГА
Степан Круглов, как всегда немногословный, суховато поздоровался. Будто невзначай, сказал в своей обычной манере:
- Товарищ Ланин, надо помочь Ново-Ладожским мастерским.
- Чем и как помочь, товарищ Круглов? Видите, не завод, а погост, чем здесь можно помочь?
- Вы в сороковом монтировали в Новой Ладоге движок с электрическим генератором, - добавил Круглов.
- Да, монтировал с участием электромонтера Кохонена из Шлиссельбурга.
Круглов выслушал ответ и добавил:
- Сейчас в Ладоге с электрической энергией большой дефицит. Снаряды, войска на фронт и продукты идут через Новую Ладогу по Дороге Жизни. Так что Новая Ладога - это вторая линия обороны. Надо обеспечить судоремонт. Нужна электрическая энергия.
- А чем я могу помочь? Сами видите, что едва ползаю. Ноги, как ватные, живот от голода вспучило.
- Ну вот, здесь Вы, пожалуй, и дойдете. Так что Вам прямой резон ехать в Новую Ладогу, там подкормитесь и поможете мастерским. Если Вы согласны, оформим командировку. Надо погрузить на Новодеревенской набережной дизель-генератор. Там стоит с грузом баржа Шекснинского пароходства. Дизель-генератор с комплектующим оборудованием доставить в Ново-Ладожские мастерские, сделать проект и установить.
Погрузка оборудования шла трудно. Баржа стояла метрах в двадцати от берега, пришлось делать мостки. Трудно было такелажить оборудование из трюма. Мороз под тридцать с лишним чугун не терпит, чуть неосторожно скантуешь – можно повредить раму. Грузили двое суток, потом заготовляли чурку для газогенераторной машины.
31 декабря машина тронулась на маршрут Ленинград – Дорога Жизни – Новая Ладога.
Принайтованный дизель-генератор, погрохатывая на ухабах, покачивался в кузове трехтонки.
Прихватили в управлении пароходства инструктора политотдела Володарского, вновь назначенного главного инженера ново-ладожских мастерских с женой и, на улице Некрасова, какую-то девушку.
Бегут заснеженные перелески, мелькают заиндевелые дома поселков. Поскрипывает кузов машины. Газогенераторы лучат тепловатый воздух, и его ловит ртом, будто граченок, выпавший из гнезда, инструктор политотдела Володарский. Володарский доходит, впадая в сонливость от голодной слабости. Бодро переносят дорогу главный инженер и его жена, экипированные для морозного путешествия, да и, видать, люди привычные к дорожным невзгодам.
Совершенно безучастен к окружающему грузчик, командированный из Новой Ладоги для сопровождения груза. На нем полушубок, валенки-чесанки и мороз не пробивает его.
Морозит основательно. На градуснике у съезда на лед Ладоги – 45 градусов. Морозит без ветра, но, все же, холод пробирает через шинель и поддетый под нее ватник. Холод забирается в нутро и единственное от него спасение – это движение.
вижение ограничено жизненным пространством, предоставленным моими спутниками. Озябли ноги, застыли от холода руки, только лицо обтерпелось, уже раньше хваченное морозом.
Луна в ореоле изморози подвешена над озером, как гигантский софит.
Тридцать первого декабря одна тысяча девятьсот сорок первого года закончилось на западном берегу Ладоги у контрольно-пропускного поста, где заиндевевший лейтенант, отдавая документы и давая «добро» на переезд, поздравил:
- С Новым годом.
Снег на озере светился синевато-голубым светом, искрясь от лунного света.
Начался новый, 1942 год, новый год испытаний, новый военный год.
Мимо закамуфлированных снежными сугробами зенитных постов, мимо санитарных палаток, машина по наезженной колее прошла по озеру от берега до берега и пришвартовалась у бараков на восточном берегу.
В бараке регулировщиков – запах потных портянок, сырого шинельного сукна, казарменный дух. Тлеющее пламя чугунки бросает отсвет на двухэтажные нары, на спущенные с них ноги. В бараке, хоть несугревная, но все же теплынь, скупая теплынь с дымком из щелей прогоревшей трубы. От дымка чуть кружит голову, клонит в сон и меня и моих случайных попутчиков.
Машина надрывно брала подъем с берега в устье канала, набрала скорость и покатилась, будто по рельсам, по наезженной тысячами колес колее.
Превозмогая сонливость, разглядывали непривычный пейзаж канала, а мороз крепчал, потрескивал в прибрежном припое, в зарослях ивняка.
Мотор постучал клапанами и, будто человек, которому не хватило воздуха, задохнувшись, замолк. Прогорел генератор, форсированный длинным переездом.
Кругом ледяное безмолвие, а до Новой Ладоги еще километров двенадцать - пятнадцать.
За двое суток, перед поездкой, мой рацион: две тарелки серой хряпы, сорок граммов крупяной каши-шрапнели, пятьсот граммов блокадного суррогатного хлеба. При таком рационе отдать концы на морозе можно запросто.
В ночь на первое января 1942 года дорога не работала. Дорога была выходной, пустынной и безмолвной.
Первым двинулся в дорогу грузчик ново-ладожских мастерских. Оценив ситуацию, он туго завязал тесемки ушанки, запахнул ремнем полушубок и сказал, собственно ни к кому не обращаясь:
- Я пошел!
Через несколько мгновений фигура грузчика растворилась в сизой дымке инея.
Несколько времени раздумывал: «Помочь здесь ничем не могу ни себе, ни другим своим спутникам. Единственный шанс – движение. Хорошо, если догонит попутная машина».
Шел не разбирая дороги. Запотели очки от дыхания через шарф, а без очков, из-за близорукости, не разобрать выбоин дороги. В пути мерещились огоньки; зеленоватые фосфоресцирующие огоньки, будто мелькали по обочинам канала. Было ли это преломление лунного света через заиндевевшие ресницы или просто плод болезненной фантазии? Но было ощущение, что фосфоресцирующие зеленоватым светом огоньки будто следят за моим движением по каналу, за каждым шагом.
Переход по каналу свидетельствовал о потенциальном запасе сил. Конечно, кроме психической энергии, дававший приказ двигаться, идти, шагать, подниматься при падении, безусловно, действовал и запас физической энергии мышц. Но все же, воля к движению задавалась напряжением нервов.
Трезвое раздумье сменялось галлюцинациями. Галлюцинации появились, как разминка, в процессе напряжения нервной системы. А представлялась всякая, в общем, приятная чепуха.
Почти отчетливо представлялись столики. Ряды уходящих за горизонт столиков и даже какие-то силуэты за столиками, близкие и неосязаемые. На столах мерещились блюда, тысячи блюд с меренгами, эклерами и буше. И от галлюцинаций приходили воспоминания: воспоминания о кофе мокко, кофе по-венски со взбитыми сливками, пеной, переливающийся через края чашки, турецким кофе с лоснящимся от жира курабье.
Черт знает, какая дребедень вертится в мозгу, а обстановка совсем не для такой чепухи. В небе туманная изморозь, голубоватая на ущербе луна. Канал уходит в перспективу сужающимся клином, зажатым откосом берегов.
Луна ушла к западу, подсвечивая лучистым серпиком, а на небе замерцали тусклые звезды.
На плоских обочинах канала только ажур лозняка, заросли вербы и сколько хватает глаз – безжизненное пространство, сливающееся с едва видным горизонтом.
Сдают ноги, в них ощущение какой-то неприятной дряблости, метры достаются с трудом, больше усилием воли. А воля тоже слабеет. Сто шагов – роздых. Потом какой-то ориентир, намеченный на старте: раз, два, левой, двадцать один, двадцать два... девяносто девять, сто – отдых. Шаги сбиваются со счета, и все начинается сначала.
На излучине канала ошеломляет несоответствием здание с балюстрадой балкона, сверкающей резьбой оконных наличников. И все это явь. На фасаде витиеватые сталактиты льдистых сосулек. Кружевная вязь заледенелых окон. Дымок курится над изломом кровли и ветром сносит дымок на юго-восток, где уже золотится зарей краюшек неба.
Мороз и воображение превратили вмерзший в лед канала дебаркадер в ледяной дворец.
На долгий стук отозвался женский голос. По акценту женщина – не русская.
Промерзла шинель, заскорузла, как юфтевая губка, кожа. В плохо топленой комнате шинель не оттаивала. С лица постепенно сходила, намерзшая на щетину бороды, изморозь.
Женщина, живущая на дебаркадере – по национальности татарка, эвакуировалась из Ленинграда. Муж – крановщик Ленречпорта.
Оттаивая, удовлетворял любопытство хозяйки дебаркадера. Хозяйка, как и люди пережившие невзгоды на жизненном пути, засуровела. Но суровость не заглушала в ней природной доброты. Чувствовалось, что женщина, маленькая женщина, скромная и видом и характером, была естественно сердечной, сочувствующей людям, попавшим в беду.
Не спрашивая, женщина разогрела похлебку, положила на стол несколько ломтей хлеба и доброжелательно пригласила к столу.
- Как в Ленинграде? – спросила хозяйка, и в голосе ее чувствовалось тревожное воспоминание об испытанном, забота о ком-то оставленном в Ленинграде, близком человеке.
- Ничего, работают, ждут – погонят немца, прорвут блокаду, разгромили немцев под Москвой, под Тихвином, а теперь, верно, очередь пришла и под Ленинградом.
Хозяйка вздохнула, и во вздохе чувствовалась надежда, надежда на конец страданий, на возврат к прежней, пусть и не богатой, но привычной жизни:
- Дай Бог, дай Бог, а то худо, товарищ, худо, - и в уголках глаз сверкнули бисеринки слез, - Семья есть?
- Есть жена, дочь, сын. Где не знаю.
- Худо, товарищ, худо. Надо немца гнать, - подвела итог разговора.
- А муж где?
- Пошел вчера в больницу, живот болит, - хозяйка с мужем пришли из Ленинграда пешком, везли кое-что на маленьких санках. Эх, товарищ, плохо жить, холодно, дров нет, керосина нет.
- Надо, хозяйка, перебираться в Новую Ладогу.
- Надо то надо, да жить негде, всюду солдаты.
Поблагодарив женщину, стал собираться в путь.
- До свидания, товарищ. Хочу еще попросить, скажи начальнику в Ладоге, чтоб муку забрали.
- Какую муку? – спросил я недоуменно.
- С плохой машины сгрузили десять мешков муки, сказали, приедут скоро, а вот уже целую неделю никто не приезжает.
В проходе лежал штабель муки, оставленной на хранение жительнице дебаркадера. По природной своей честности женщина беспокоилась о грузе.
- Обязательно скажи, а то я и уйти никуда не могу.
До Новой Ладоги оставалось еще три километра пути. Конец пути, начало новых судеб, новой страницы жизни.
Начальник новоладожских мастерских Мутовкин, в окружении наехавшего начальства из управления пароходства, посолиднел от сознания фатально выпавший на его долю роли. Маленькие, захудалые мастерские, еще плохо оснащенные, силой обстоятельств военного времени стали базой, обраставшей специалистами, рабочими и оборудованием.
Кормили раз в день заварухой из поднятой со дна озера топлой муки. От заварухи или от съеденной на дебаркадере похлебки, а может от длительной голодовки, одолевали поносы.
Днем работа по установке дизеля-генератора, по приведению в порядок цехового электрооборудования, забывчивый сон-дрема ночью. Все вперемежку с двумя десятками позывов, настигающих неожиданно и обессиливающих.
Слабость вышибает из колеи, трудно бороться с апатией. За несколько дней деградирую в «доходягу».
Наконец, дизель пыхтит, энергия подана, я свободен и получаю разрешение начальства вернуться в Ленинград.
Проезжая мимо дебаркадера, прошу на минуту остановить машину. Но на дверях дебаркадера замок, труба не дымит, и еще больше промерзли окна.
- До свиданья, - мысленно прощаюсь с хозяйкой дебаркадера, - До свидания, - и вспоминается ее тихий голос:
- Худо, товарищ, худо, надо немца гнать!
 Характеристика
Характеристика
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2