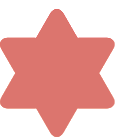18.09.2015
Легендарный шамес Малой Синагоги
Легендарный шамес Малой Синагоги
Публикуем подборку воспоминаний о р. Авроме-Абе Эздрине – легендарном шамесе ленинградской Малой Синагоги на протяжении 50 лет. Автор воспоминаний – д-р Александр Шейнин.
Предисловие (объяснительная записка)
Первая встреча
«Алый парус»
Бар-мицва папы
«Шлухос мицва» (р. Авром-Аба и р. Ицхак-Эльханон)
Мир народам
Р. Авром-Аба в семейном альбоме Александра Шейнина
Махт а брохе! – соверши благословение!
Прощание
Не последняя встреча
Лика
Да здравствует! Ихи!
Завет Авраама
Выкуп первенца (пидьон а-бэн)
Цон а Кодеш. Симхат Тора
Предисловие. (Объяснительная записка)
Когда недавно ко мне обратились за помощью в подготовке публикации о р. Авром-Абе Эздрине, легендарном шамесе Малой ленинградской (хасидской) синагоги, я вдруг понял, как ничтожно мало знаю я о моём наставнике и учителе.
Он был настолько слитен с образом ленинградской синагоги, что воспринимался всеми как неотъемлемая её составляющая: её залов, комнат, миквы, птицерезки... Он был неотделим от артефакта «страны победившего социализма» – вопреки всему уцелевшей синагоги, с гулкими её звуками, ветхими книгами, одинокими сгорбленными стариками и всегда, даже в безлюдии и тишине, с вечным таинством невидимой, но никогда не прекращающейся работы.
 Р. Авром-Аба благословляет детей коэнским благословением Р. Авром-Аба благословляет детей коэнским благословением |
Тогда, в те ленинградские годы, мне в голову не приходило поинтересоваться Авром-Абой ЛИЧНО, его историей, его семьёй. И даже слушая его неисчерпаемые, порой бесконечно длинные, запутанные до потери нити рассказы, я не запоминал их, будучи захвачен особым «вкусом» его речи, житейской мудростью и чувством Провидения, называемого у хасидов «ашгохой».
Он называл себя «ровесником века». И он остался в памяти «ровесником прошлого века», хотя несомненно, что весь его образ был наполнен характерным еврейским непреходящим. Да, Авром-Аба казался вечным, а, значит, события, люди и судьбы проходили, как бы на фоне его, почти неизменного с годами.
Не раз мне доводилось задумываться над концепцией неизменного МЕСТА (или предмета) и протекающих на этом месте (или с этим предметом), СОБЫТИЙ.
Вечный Иерусалим или улица старого Петербурга, дома и камни, помнящие проходивших мимо или ступавших по ним... Этому подобен человек, выбранный точкой отсчёта и основой координат – он не только живёт, он не только «ровесник века», но и век, и события происходят на фоне этого «неизменного человека».
Подумалось, что для меня и естественнее и правильнее будет рассказать не о самом Авром-Абе, а о тех значительных событиях моей жизни, в которых присутствовал Авром-Аба, от первого моего знакомства с ленинградской синагогой и до наших встреч на Святой Земле, где для многих он, как и прежде, оставался не только наставником, но и надёжным осколком утерянного и погибшего мира – «той» России и её еврейского Ленинграда.
Здесь лишь несколько зарисовок незабываемых мгновений, когда я соприкоснулся с ребе Авром-Абой, мгновений-ВСпоминаний**, возвращающихся сегодня, чтобы поддержать, укрепить, посоветовать, благословить или заставить улыбнуться.
** Авторство термина "ВCпоминания" принадлежит, вероятно, двоюродному дяде моему – Семёну Левитану, именно так назвавшего свою прощальную, автобиографическую книгу.- прим. А. Шейнина
Первая встреча
 Р. Авром-Аба в Большой Хоральной Синагоге Р. Авром-Аба в Большой Хоральной Синагоге |
Я запомнил нашу первую встречу летом 1974 года. В силу особой истории, приключившейся потом, знакомство это оказалось незабываемым. Расскажу.
Окончив первый курс института, я позволил себе опасное и недопустимое для студентов тех лет: гуляя как-то с фотоаппаратом по городу и оказавшись возле синагоги, я осмелился заглянуть внутрь.
Давным-давно, ещё в детстве, дядя Лёва, живший неподалёку, показал мне издалека это здание, бросил, как бы мельком и невзначай: «А вот синагога». И, надо же, спустя годы, блуждая в тот памятный день возле Исаакиевского собора и Мариинского театр, я вспомнил тот переулок и дом.
Так впервые в моей жизни появилась синагога: скрипнула калитка, поддалась тяжелая дверь, меня встретила гулкая прохлада незнакомого пустынного зала и таинственный полумрак, пронзаемый лучами откуда-то сверху... Увиденное тогда вспоминается чёрно-белыми кадрами старой фотографии: двое пожилых мужчин в чиновничьих костюмах с галстуками, но в непривычных для меня головных уборах и, лишь по книгам знакомое «Шалом алейхем!».
На растерянное моё: «Можно ли посмотреть?», – «Разумеется, можно!», – и заулыбавшись, они вдвоём повели меня в зал, зажгли свет у какой-то трибуны, и на ней вспыхнула сооружённая из множества лампочек шестиконечная звезда. Увиденное было столь необычно, что я осмелился спросить, можно ли сфотографировать и получил разрешение: «Конечно, здесь всё открыто для туристов, для посетителей». На вопрос мне заданный: «Откуда будете?», – я опасливо сказал: «Из Ленинграда». - Где учитесь?
- Студент...
Врать я не любил и постарался скорее убежать на улицу – дальнейший разговор представлялся мне опасным. Подумалось: они меня вдвоём сопровождали, чтобы лучше следить за мною, а за одно и друг за другом, чтобы не подумали чего – всё при свидетелях.
 В Малой (хасидской) ленинградской синагоге. Шамесы. Слева – Авром-Аба Эздрин, справа – Янкев-Шая (Яков Борисович) Бутман В Малой (хасидской) ленинградской синагоге. Шамесы. Слева – Авром-Аба Эздрин, справа – Янкев-Шая (Яков Борисович) Бутман |
 Они же на хупе Они же на хупе |
«Алый Парус»
Спустя несколько дней после этого, первого в моей жизни, посещения синагоги, я отправился в Москву, чтобы осуществить давно задуманное: познакомиться с редакцией раздела «Алый Парус» газеты «Комсомольская Правда», органа ЦК ВЛКСМ.
Именно там, в редакции со столь романтическим названием я, как ни странно, надеялся найти единомышленников по моим тогдашним коммунарским и психологическим увлечениям, а также заполучить письма и адреса людей, откликнувшихся на публикацию в газете писем некого юноши, как и я, озабоченного экзистенциальными проблемы бытия. (История этих писем имела в дальнейшем долгое, тяжёлое и даже трагическое продолжение. Она требует отдельного рассказа. Здесь эта тема затрагивается лишь в силу её переплетения с описанным выше посещением ленинградской синагоги.)
В Москве, остановившись у бабушкиной старшей сестры Полины, я познакомился с не знакомым мне прежде гостем – пожилым дальним родственником по фамилии Аронин. Он тот час начал живо интересоваться моей семьёй, моими интересами и целями приезда. А я, конечно же, поделился с ним идеями «толстовства», строительства коммун, «где люди схожие по духу, по мировоззрению, смогут вдали от общественного давления современного общества, жить естественной и счастливой жизнью в согласии с собою и природой» – примерно так. Аронин слушал меня и по-доброму улыбался, а когда я, наконец, исчерпал поток своих размышлений, он положил мне руку на плечо и по-отечески сказал: «Молодой человек, в Вашем возрасте неудивительны такие прекрасные идеи: коммуна, избушки в деревне, друзья, справедливость... Поверьте мне, я чуточку старше, и многое видел и пережил. Даже если поначалу Вам удастся, потом это пройдёт, парни и девушки обзаведутся семьями, у всех начнутся свои проблемы, работа, учёба, и всё распадётся. Да и вообще кто это вам такое разрешит?! Послушайте моего совета: займитесь учёбой, профессией – это для Вас сейчас главное. Стройте своё настоящее будущее, а не эти... “холоймес”... Вы знаете, что такое “холоймес”? (сны, фантазии)».
Больше я этого Аронина не видел никогда. Даже не знаю точно, кем он мне приходился, вероятно, двоюродным бабушкиным братом, спасшимся сыном одного из погибших на Украине братьев прадеда моего Менахема-Менделя Якова или Эли.
Разумеется, я не послушался этого умудрённого жизнью московского родственника и в тот же день, раздобыв телефон редакции, позвонил. На удивление, меня сразу же пригласили, и когда назавтра, с портфельчиком и фотоаппаратом «Смена», я явился в проходную огромного здания «Комсомольской Правды», там меня уже ждал пропуск. Охранник позвонил в отдел «Алый Парус», предупредил о моём прибытии и показал дорогу.
В небольшом кабинете меня радушно встретили казавшиеся мне тогда легендарными, журналисты «Алого Паруса» Юрий Щекочихин и Леонид Загальский. Не помню, что именно я наплёл принимавшим меня симпатичным сотрудникам редакции, вероятно, какую-то смесь из популярной психологии юношества, идей декадентства, богоискательства и романтического социализма... Это философское предисловие сводилось к просьбе разрешить мне почитать те «горы писем от молодёжи», которыми, судя по публикации, была «завалена» редакция газеты. «Чтобы изучить проблему конфликта с обществом, отторжения, тоски и одиночества... и помочь этим страждущим людям найти друг друга…»
(Прислушиваюсь с себе сегодня: «Конфликт с обществом»?! С каким, с советским?! «Проблема отторжения». «Тоска». «Одиночество»... Это у советской-то молодёжи?! У комсомольцев-строителей коммунизма?! Этими вопросами я почему-то не задавался тогда. Мне зададут их потом «компетентные товарищи» из КГБ и постараются подыскать увлечениям моим определение: от сектантства и даже баптизма(!) до «диссидентства и, наконец-то, назовут сионизмом. С последним я когда-нибудь вполне соглашусь. А тогда меня вообще не интересовала политика, а только личные проблемы, которые я, сам того не понимая, отправился решать на «минное поле».)
Тем временем ребята из редакции, казалось, поняли меня с полуслова: может, увидели во мне «родную душу», а может, были слишком заняты или по ошибке приняли меня НЕ ЗА ТОГО? Они раскрыли передо мной огромный шкаф и вытащили оттуда два картонных ящика, переполненных сотнями (тысячами?) писем – откликов на то, опубликованное злополучное письмо «одинокого, не такого, как все, неправильного человека»: «Пожалуйста, читай. Если хочешь, садись к столу. Дать бумагу?», – очень всё по-свойски. Я забился в угол у шкафа, достал ручку, тетрадь и впился в эти горы свалившихся на меня «кричащих» писем. Сотрудники носились туда-сюда, обсуждали что-то, спорили, звонили и совершенно не обращали на меня внимания, будто это само собой разумеется, что незнакомый посетитель, развалившись у них в кресле, роется в частной почте и выписывает из писем какие-то цитаты, адреса и имена.
Потом журналисты собрались на обед. Пригласив меня с собой и услышав о моём желании «лучше остаться, если можно, поработать», вскоре исчезли, оставив меня в редакции совершенно одного. Я воспользовался их отсутствием, чтобы спокойно снять на фотоаппарат незабываемые горы писем, вываливающихся из переполненных коробок, а потом (сам не понимаю, как я решился на такое!) запихнул в карманы несколько особо заинтересовавших меня писем. Было ясно, что даже за неделю мне не удастся изучить всю эту почту, и я читал, вытаскивая письма на выбор, поначалу выписывая наиболее интересные цитаты, а потом, не в силах справится с таким немыслимым количеством навалившихся на меня историй и судеб, стал просто наспех переписывать с конвертов адреса – быть может, пригодятся: списаться, познакомиться, кто знает.
Вернувшись из буфета, вихрастый и блондинистый Юра протянул мне бумажный кулёк: «На вот, подкрепись!». В пакете была мягкая и сдобная, присыпанная сахарной пудрой, большая и слоённая, начинённая маком, булочка. (Я и сегодня помню этот простой и открытый человеческий поступок и жест: «На вот, подкрепись...» и булочку эту с маком, которую потом всегда мне будут напоминать все последующие сдобные булочки с маком. И даже не потому, что Юру потом убьют, и не потому, что поездка та в редакцию и те письма станут началом очень важной в моей жизни главы. Мне запомнился сам по себе, почти в отрыве от контекста, «человеческий фактор», искренняя, непрошеная, внештатная, совершенно не прагматичная забота о незнакомом человеке, оставшемся в кабинете и не отправившемся почему-то вместе со всеми на обед. Тем более стыдно мне вспоминать тайное похищение нескольких писем, пусть не нужных уже никому, кроме меня, но всё-таки тайное).
Поздно вечером в полном изнеможении я, наконец, покинул редакцию «Алого Паруса». Всё увиденное, прочитанное, казалось, было в излишке – требовалось время, чтобы обдумать всё и пережить.
Утром обнаружилась пропажа фотоаппарата – моей «Смены». Тяжелая пустота повисла в груди. Отчаяние, горечь потери. А потом ужас, панический страх: что, если кто-то, нашедший мой фотоаппарат, надумает открыть его, проявить плёнку?! Он увидит фотографии мои и моих знакомых, СИНАГОГУ ИЗНУТРИ, а потом снимки писем внутри редакции! Что если фотоаппарат был забыт не в автобусе или в метро, а в самой РЕДАКЦИИ!? Ведь тогда, проявив плёнку, они сразу же поймут, что он мой! А в проходной, где мне заказывали пропуск, – моё имя, мой адрес, мой ленинградский телефон.
Я сел на диван и обхватил голову руками. Ещё не имея личного опыта общения со «спецорганами», но в силу некоторой интеллигентности и чуткости к общественной атмосфере я понял: дело плохо. Очень плохо. По меньшей мере, мне грозило отчисление из института, призыв в армию и, наверное, конец ВСЕМУ.
Если фотоаппарат был потерян или украден на улице – лучше всего молчать, не искать его и поскорее возвращаться в Ленинград. Но если он остался в редакции, надо спешить, пока плёнку не проявили – дорога каждая минута!
С дрожью и страхом я набрал номер редакции. Кто-то из журналистов отправился искать мою «Смену» в углу, где я накануне сидел и, к счастью, нашел – до моего звонка никто её не обнаружил! Я снова помчался в редакцию, опасаясь – не ловушка ли это? Но выбора уже не оставалось, я опять оказался в комнате «Алого Паруса», схватил свою потерю и немедленно ретировался.
Уже в Ленинграде, дома, проявляя в ванной злополучную плёнку, я всё ещё сомневался в своей удаче и «чудесном спасение». Только когда при свете инфракрасного фонаря на плёнке, а потом и на бумаге появились узнаваемые кадры, я поверил: ПОВЕЗЛО!
На фотографиях и черно-белой плёнке действительно были «обличающие кадры»: едва различимая в полумраке утварь синагоги, светящаяся шестиконечная звезда, и в отблесках её – контур седобородого старца, первого провожатого моего по залам синагоги...
Можно представить, сколь велик был страх перед системой и какое потрясение я пережил тогда, если, подчинившись страшной и, быть может, преувеличенной самоцензуре, немедленно уничтожил и фотографии и плёнку с «уликами» её: со стариком в пустынном зале синагоги, Москвой, редакцией и грудами писем одиноких и отверженных.
Столь запомнившийся мне скорее по уничтоженной фотографии, чем от знакомства наяву, тот самый старец из синагоги встретится мне снова лишь спустя долгое семилетие. Прильнув к традиции и оказавшись снова в синагоге, я познакомился с ребе Авром-Абой и, конечно же, сразу вспомнил ту историю с редакцией газеты и забытым в ней фотоаппаратом.
Бар-мицва папы
 Текст на иврите о бар-мицве Александра Шейнина Текст на иврите о бар-мицве Александра Шейнина |
Интервью Менахема-Менделя Шейнина с его отцом Александром Шейниным. 1999 год.
Когда я спросил моего папу о его бар-мицве, он сказал, что не помнит, чтобы на его бар-мицве было что-нибудь, связанное с иудаизмом, но он помнит, что это был его самый большой и самый удавшийся день рождения, к которому он готовился много времени, но не знал, что это бар-мицва. Дедушки и бабушки сказали ему, что тринадцатилетие – это уже возраст зрелости и серьезности, но не сказали ему ничего, что касалось еврейства.
Через девять лет, когда папе моему было двадцать два, его бабушка умерла. Был у неё шкаф (секретер), о котором папа мой всегда хотел разузнать – что есть в нём? И вот ему представилась возможность. Он вошёл в комнату, открыл этот шкаф и стал изучать, что в нём есть. Было там много древних вещей. И вдруг он видит маленький чёрный мешочек из сатина, он открыл его и увидел в нём маленькие чёрные, вроде как кубики с короной на одном из них, и к ним приделаны кожаные ремешки.
Он испугался, ведь он не знал, что это такое – быть может, это что-то очень древнее, к чему нельзя притрагиваться? И вдруг он видит, что один из кубиков немного порван. Он посмотрел вовнутрь и увидел там какие-то свёрнутые трубочками «бумажки», связанные ниткой. Он испугался ещё больше, он взял пинцет и вытащил «бумажки». Он развернул их и увидел, что написано на них что-то странным непонятным почерком. Тогда он вспомнил, что однажды, ещё в школе, по теме «Религия» он учил, что «еврейчики молятся своему Б-гу с коробками на головах». Теперь он испугался действительно. Может, это что-нибудь святое? Может, это что-то, что запрещено трогать? Может, случится что-нибудь со мной? И он решил оставить это.
Через три года после этого, когда он был двадцати пяти лет, он начал интересоваться еврейством. Это была долгая история, как он сделал обрезание и прочее...
И вот однажды, когда он учил со своим наставником Авром-Абой Эздриным в Большой ленинградской синагоге про тфиллин, он понял, что именно за «чёрные коробочки» были в шкафу его бабушки. На следующую встречу мой папа принёс их своему наставнику, чтобы он поправил их, где надо. ( Авром-Аба был также и сойфером). На следующий урок он уже надел тфиллин первый раз в своей жизни. В этом тфиллине мой папа потом молился в ЦАХАЛе в Эрец Исраэль.
 Тфиллин Тфиллин |
  В Иерусалиме, на площади «Давидка». Рядом с Авром-Абой маленькая Эстер-Менуха Шейнин. 1995 год |
«Шлухос мицва» ( р. Авром-Аба и р. Ицхак-Эльханон)
Одним из самых значительных событий, к которому я оказался причастным в те годы, был перенос могил великих раввинов р. Ицхака-Эльханона Спектора (Ковенского Гаона) и сына его и приемника р. Цви-Гирша Рабиновича (Да будет благословенна память о них!)
Скитаясь по Литве в поисках утерянных корней, я впитал в себя кошмар 9-го Форта и Понар, рассказы стариков и воздух Катастрофы. Там, на осквернённом и уничтожаемом еврейском кладбище Каунаса (Ковно) обнаружив свастики на разбитых надгробьях и помойки в склепах наших великих учителей, я совершенно заболел. Потрясённый вернулся я в Ленинград, пришел в синагогу и поделился бедой с Авром-Абой.
Эмоции переполняли меня, и я обдумывал всевозможные способы вмешаться в непрекращающееся глумление над живыми и мёртвыми. Я думал о демонстрациях, о письмах протеста, об обращении к иностранным политикам и журналистам…
Выслушав мои крики и возмущенные причитания, Авром-Аба сказал: «Послушайте, не надо шума, не надо писем протеста и демонстраций – это не поможет, только хуже будет. Вы поезжайте туда тихонько, пойдите в контору, скажите, что мол, так и так, я внук, хотелось бы дедушку на другое место перенести, раз кладбище это сносят. Не говорите ничего, ни кто он, «дедушка», ничего прочего. Заплатите, официально, как положено, Б-г даст, всё получится». С этими словами он достал несколько бумажных купюр и протянул мне: «Вот, пока что на дорогу. Поезжайте немедленно, только делайте, как я сказал – назовитесь внуком».
Потом он достал пару монет и вложил мне в ладонь: «Это будет “шлухэс мицва”. На добрый путь. Одну монету отдайте там, куда приедете, на цдоку, а другую, по возвращении верните здесь. Сказано в Талмуде: “Шлухэс мицва – эйн нэзикин”, что значит: “У посланца мицвы нет ущерба". С выполняющим заповеди ничего плохого не случится».
Действительно, нужно было торопиться – древний склеп с могилами раведников, превращённый в отхожее место, тамошние варвары могли снести в любую минуту. Тем не менее, для осуществления плана требовалась подготовка – было необходимо получить хоть какую-либо формальную информацию о нашем «дедушке», хотя бы узнать годы его жизни, быть может, найти его портрет или фотографию. Признаюсь, в то время о раве Ицхаке-Эльхононе Спекторе я не знал почти ничего. А легенда должна была казаться правдоподобной. Это вообще должно было быть не легендой, а правдой. Правдой, как залогом успеха. В конце концов, духовный учитель – чем не дедушка?
В старинной Еврейской энциклопедии Брокгауза и Эфрона мы обнаружили статью о раби Ицхаке-Эльхононе и его сыне. Там и даты их жизни. Штрихи к их биографиям заворожили ещё больше, образы великих раввинов давным-давно минувших дней стали по-настоящему родными и близкими. В каунасской синагоге я предполагал переснять с огромного портрета на стене «дедушкину фотографию» и поместить её в «семейный альбом».
Наконец, я решился отправиться в Каунас на «разведку». Незадолго до отъезда я снова зашел к Авром-Абе. На этот раз он протянул мне маленький медный брелочек – медальон, похожий на старинную монету. На нём был изображен уже знакомый образ рава Ицхака-Эльхонона с одной стороны, а с другой – тот самый склеп на каунасском кладбище, в котором находились могилы.
(В дальнейшем мне доведётся встречать подобные медальоны с изображением рава И.-Э. Спектора и места его захоронения. Вероятно, почитание рава было столь высоким, что люди носили «камею» эту как «защиту» на груди, что было совсем не типично для ашкеназских евреев. Мне довелось слышать, что медальоны эти были выпущены во время эпидемии чумы и были призваны охранять от заражения страшной болезнью).
Тогда же сам факт обнаружения этого предмета у Авром-Абы казался мне знаком с небес и залогом правильности принятого решения. Он казался мне столь драгоценным, что я не посмел принять его как подарок и тем более взять в дорогу – вдруг потеряется или отнимут. Приятель мой, Макс (Менахем) Фрейдзон, работавший тогда в стоматологической лаборатории, немедленно сделал оттиск и отлил копию того медальона из алюминия, только без ушка. Он хранится у меня и поныне. А тот, медный мы сразу отдали Авром-Абе. Спустя несколько лет, уже в Иерусалиме, Авром-Аба сокрушался, жалел, что я не взял тогда тот медальон на сохранение. В Ленинграде он попросил каких-то туристов переправить реликвию на Святую Землю, чтобы когда-нибудь, если ему удастся туда добраться, он смог бы получить её обратно. Увы, кто были те туристы, Авром-Аба не запомнил, взяв вещицу, они пропали и более знать о себе не давали...
 Медальон с изображением рава Ицхака-Эльхонона Медальон с изображением рава Ицхака-Эльхонона |
 Обратная сторона медальон с изображением склепа на каунасском кладбище Обратная сторона медальон с изображением склепа на каунасском кладбище |
|
|
Мир народам
Помню наше недоумение, когда старый хасид и габай Малой ленинградской синагоги Авром-Аба ז''ל, бывало, громогласно читал молитву «За здравие правительства СССР, оплота мира во всём мире». На наш вопрос: «Как же Вы так?», он пояснил однажды: «Нет МИРА ни народам, ни правителям без МИРА ЕВРЕЯМ. И потому, желая им мира, мы желаем МИР нам. И пусть только ослушаются, им эта броха (благословение) боком выйдет!» При этом он смачно сплюнул и растёр, как это делается во время молитвы «Алейну».
Авром-Аба в семейном альбоме Александра Шейнина
 В ленинградской синагоге. Раввин Авром-Аба с сыном Менделем (по левую руку) и учеником Арье Вохновецким (справа) В ленинградской синагоге. Раввин Авром-Аба с сыном Менделем (по левую руку) и учеником Арье Вохновецким (справа) |
 Начало «Перестройки». Первый НЕ подпольный ханукальный концерт в клубе Политехнического института. Начало «Перестройки». Первый НЕ подпольный ханукальный концерт в клубе Политехнического института.Раввин Авром-Аба в центре |
 Встреча в аэропорту Бен-Гурион. 1989 год. На снимке справа налево: р.Авром-Аба, р.Рафаил Неймотин, р. Мордха Романов, р. Ицхак Коган, д-р Александр Шейнин, р. Арье-Лейб Файн Встреча в аэропорту Бен-Гурион. 1989 год. На снимке справа налево: р.Авром-Аба, р.Рафаил Неймотин, р. Мордха Романов, р. Ицхак Коган, д-р Александр Шейнин, р. Арье-Лейб Файн |
 Кидуш. Моше Шейнин на руках у дяди. Авром-Аба Кидуш. Моше Шейнин на руках у дяди. Авром-Аба |
 Моэль р. Йосеф Коэн Гальперин, р. Исраэль Пинский, Пётр Моисеевич Кац (р.Пинхас) , р.Авром-Аба Эздрин. За спиной П.Каца – счастливый отец Азриэля-Хаима-Вульфа д-р Александр Шейнин Моэль р. Йосеф Коэн Гальперин, р. Исраэль Пинский, Пётр Моисеевич Кац (р.Пинхас) , р.Авром-Аба Эздрин. За спиной П.Каца – счастливый отец Азриэля-Хаима-Вульфа д-р Александр Шейнин |
 Слева направо: прадедушка юбиляра Лев Василевский, П.М. Кац, Цион Абрамов, р.Авром-Аба. Юбиляр Менахем-Мендел Шейнин Слева направо: прадедушка юбиляра Лев Василевский, П.М. Кац, Цион Абрамов, р.Авром-Аба. Юбиляр Менахем-Мендел Шейнин |
|
|
 Раввин Авром-Аба Эздрин и П.М. Кац Раввин Авром-Аба Эздрин и П.М. Кац |
Махт а брохе! – соверши благословение!
Это была вечная уловка Авром-Абы. Сидя за столом при входе в малый зал синагоги, он обращался к приходящим с разговором: «Шалом алейхем!, – смотрит сквозь очки и улыбается, – Откуда будете? ... Вот, присядьте, послушайте историю одну... Как-то раз в Средней Азии перевозили мануфактуру..., – он выдвигает ящик старого письменного стола, заваленного книгами, копилками, записками и тысячами непонятных штучек и предметов, достаёт из ящика завёрнутый в бумагу кусочек лекеха (медовой коврижки), перочинный ножик и продолжает, нарезая лекех маленькими кубиками, – ... А в купе поезда.... Пожалуйста, махт а брохе!, – он предлагает отведать лекеха, – сделайте благословение! Ну! Барух…, ну!».
Пойманному врасплох гостю, держащему в руке кусочек пирога и уже открывшему рот, приходилось вслед за Авром-Абой по слогам разучивать благословение на мучное, на «мезонот». После этого Авром-Аба продолжал свой рассказ.
Прихожанам более «продвинутым», уже знавшим благословения на разные виды пищи, приходилось пройти более сложную «тренировку»: по степени убывания «святости» продукта Авром-Аба доставал из стола то орешек и колол его, то резал на дольки яблоко, то доставал бутылочку, стаканчик, протягивал их поочерёдно один за другим и требовал, улыбаясь, но тоном, не терпящим возражения: «Ну! Махт а брохе! Ба-рух, А-то, .... Ну! Сотворивший плод древесный.... Мэлех а-Олам .... Царь вселенной, по слову Которого создано всё!». И так пока не исчерпаются все угощения, требующие отдельного благословения.
Авром-Аба хорошо знал, что благословения, как и другие заповеди, – это лестница, ведущая к Небу, звуки, пробуждающие собственным голосом того, кто его произносит, первые ступеньки и ноты вечного нигуна. «Махт а брохе! Ну!...»
Как-то, уже в Иерусалиме, когда Авром-Аба приболел, я зашёл навестить его, прихватив из своего сада немного фруктов и дынь. Лёжа на кушетке и разместив на тумбочке часть плодов, он протянул мне ножик, попросил порезать и потребовал, как когда-то, как бы экзаменуя: «Махт а брохе! Ну?».
Конечно, я не мог сопротивляться и произнёс заветное «Барух ...» вместе с Авром-Абой. Это был последний раз, когда мы трапезничали вместе.
Прощание
В доме престарелых, куда Авром-Абу перевели после операции, он первое время очень переживал. Вырванный из привычного потока времени, знакомых людей и предметов, почти слепой, беспомощный, в капельницах и зондах, на инвалидном кресле он путался, как многие в этом доме, стонал и кричал проходящим мимо санитарам и посетителям: «Одну минутку, будьте любезны, пожалуйста! Я Авром-Аба Эздрин, я вышел из дома и потерялся! Пожалуйста, отправьте меня домой!». Постепенно, он видимо, свыкся, сник и притих, погрузившись в одному ему и Б-гу известные размышления.
Даже среди измождённых глубоких старцев, сгорбленных трясущихся старух, вывозимых, как и он, на каталках из палат в большую гостиную, он смотрелся особо, отличаясь осанкой, обликом лица, опущенными навсегда тяжелыми веками. Он выглядел патриархом. Отцом Авраамом.
Именно там, в этом доме, недалеко от «Тахана Мерказит», ещё до того, как он окончательно слег и погрузился в небытие, до того, как его перевели в другой дом и другую палату, состоялась наша с ним по-настоящему прощальная встреча.
В тот день я взял с собою навестить Авром-Абу четверых своих сыновей – сколько их было тогда в 2000 году. Его вывезли к нам в кресле, одетого аккуратно, почти по-субботнему. Я приблизился, поприветствовал его и назвался – вдруг не узнает.
- Алек? Доктор? Шалом, шалом! – указательным пальцем своей руки он чуть приподнял упавшее веко, взглянул на мгновенье и едва улыбнулся, увидев меня и детей. – Ну, что слышно? Что делается? – спросил он обычно, как всегда.
А я, как когда-то, постарался ему рассказать, что делается, и про каждого из детей. Он предложил их «побенчить» – благословить, ведь он коэн, и я по очереди подвёл к нему одного за другим, начиная со старшего, сандаком которого Авром-Аба был ещё в ленинградской коммуналке. Он поочерёдно возлагал на их головы руки и, крепко придерживая ермолочки, шептал с закрытыми глазами, называя имя каждого: «... Ивареха А-Шем вэ ишмиреха... Осветит тебе лицо ... и принесёт мир...». И так каждого, как и прежде, когда он благословлял их на «апшерос» подстригая их локоны, потом в праздники, а то и просто, по случаю...
После этой, по-настоящему прощальной встречи, были уже редкие посещения, разговоры с дежурными медсестрами, молчаливое сидение у постели и порой псалмы или почти беззвучный знакомый нигун... Я напевал ему семейные наши мелодии «Субботы и праздников», «Ахим – бридер» и ту, его, которой он нас учил в коммуналке, на обрезании, а потом на выкупе моего первенца Менахема-Менделя (сына Авром-Абы тоже звали Менделем):
Аз их волт хобн кеях,
Ун волт, кенен шраен,
Волт их лейфун ин дигасн,
Ун шраен, шабес хаейм,
Ла а-Шем...
Микелес маим рабим
Маим рабим адирим,
Адирим мишебрей йом.
(Тегилат-а-Шем, стр133)
(Если бы у меня были силы
И мог бы я кричать,
Бежал бы я по улицам и кричал:
Суббота сегодня Г-споду!)
И по сей день, спустя почти что четверть века, я ношу с собой, как талисман, тот огрызочек бумаги, на котором русскими буквами я пытался записать слова любимой песни Авром-Абы...
...Возвышают реки голос свой,
Вздымают реки волны свои,
Но сильнее ревущей воды,
Великой и могучей,
Сильнее морских валов,
Господь в высотах своих...
(Сохранилась и магнитофонная запись того дня).
В последний раз я видел его уже беспробудно спящим, почти потерявшимся в светлом казённом белье с печатями лечебного учреждения, совершенно одного в маленькой чистой палате, где тумбочка была непривычно пуста, где на стенах не было типичных для больничек репродукций, а на окне – цветов.
Только самое последнее и необходимое: лампочки, кнопки и какие-то шланги. Я подумал тогда: «Вот так растворяется, вот так уходит, так исчезает с мирского света человек. Не взяв с собой ничего из привычных ему вещей».
Тогда же, вместо него и без спросу, я прочитал за него «Видуй» – молитву умирающего. Авром-Аба говорил о себе, что он «ровесник века». Шел 2000 год – закончился его век.
Не последняя встреча
 Авром-Аба Авром-Аба |
Хав-Алеф, 21-го элула, 5747 (1987) родился Йосеф Коган, сын Изи и Софы ז'ל Коган. Изя пригласил меня и ещё нескольких на «лехаим» в кухоньке съёмной квартирки в Гило. «Чтобы вскорости у тебя!», – сказал он мне.
Через год, в тот же день, в Хав-Алеф элул, 5748 (1988) в главу «Ки таво» (Когда придёшь ... в Землю Израиля), где описаны законы и правила поведения в Эрец-Исраэль, родился Моше, первый из детей, появившихся у нас на Святой земле.
Бар-мицву (тринадцатилетие) Йосефа Когана отмечали в зале бывшей иерусалимской гостиницы «Рамат Тамир», той самой, что когда-то была нашим первым благословенным пристанищем на Святой земле.
Во время торжества поступило известие о смерти р. Авром-Абы Эздрина ז'ל . Часть гостей и я в их числе, тотчас отправилась на похороны на Ар-а-Менухот, а часть, чтобы не омрачать радость бар-мицвы, осталась.
После похорон мы вернулись на продолжение торжеств.
Так судьба этой датой – Хав-Алеф элул – снова подтвердила тайную и явную связь наших душ.
Лика
Мне кажется, была весна. Значит, были белые ночи и пионы. С Ликой мы познакомились в синагоге, куда она пришла, чтобы просить Б-га спасти её маму. Маму Лики привезли из Алма-Аты в Ленинград. Она сама была врачом, но помочь ей не смогли и понадеялись: «Быть может, в Ленинграде».
Пока доктора боролись за Ликину маму, Лика дежурила у её постели в больнице, отдыхала иногда у тёти, а иногда появлялась в нашей компании. Ликина мама умирала, и Лика об этом знала, ведь и она училась в медицинском и всё понимала. А когда Ликина мама умерла, мы пошли в синагогу спросить Авром-Абу, что нам делать дальше.
В Алма-Ате маму уже ждали: Ликин папа и родня. Авром-Аба сказал, что мы должны успеть проводить Ликину маму по-еврейски. Он объяснил законы траура и то, что кожаную обувь умершей надо порезать так, чтобы никто не смог её носить.
Ещё он сказал, что «кремировать покойного – это хуже, чем скормить его собакам», и помог организовать Ликиной маме настоящие еврейские похороны с обмыванием и саваном, с прощальными молитвами в синагоге на Преображенском кладбище. Там горели свечи и читали псалмы. И плакала Лика.
Потом деревянный гроб поместили в цинковый и свезли в багажное отделение Варшавского вокзала. Гроб оформили в багаж и надписали, и поставили рядом с прочей чужой утварью: мешками, бочками, чемоданами и ящиками.
Авром-Аба сказал, что мёртвых не оставляют без присмотра, и мы сопровождали повсюду Ликину маму. В привокзальном дворе, за паровозными ангарами мы сидели рядом с гробом и ждали, когда его, наконец, погрузят в багажный вагон. До поезда оставалось несколько часов, я спешил на работу, и мне пришлось оставить Лику со страшным её багажом одну.
Так мне и запомнилась она, одиноко сидящей возле гроба, среди гор чужих вещей под грохот и гудки уходящих вдаль поездов. Через некоторое время Лика написала нам письмо. О том, как приехала домой, как сотни людей шли в траурной процессии за гробом её мамы, как звучала траурная музыка и произносили речи сослуживцы и пациенты Ликиной мамы, и что портрет её висит на стенке бывшего её кабинета, и как во всём этом мучительном и непоправимом горе Лика рада, что побывала в Ленинграде, и что мама её, любимая мама, нежданно и негаданно удостоилась в Ленинграде настоящих еврейских похорон.
Лика окончила медицинский институт, вышла замуж и спустя несколько лет поднялась с семьёй на Святую Землю.
Да здравствует! Ихи!
Вот какая история с участием Авром-Абы вскоре после приезда его в Иерусалим вспоминается мне. То был какой-то хасидский ХАБАДский «фарбринген», или сбор: зал, много народа, музыка, закуска на столах...
Вдруг ведущий объявляет в микрофон и приглашает поочерёдно выйти на импровизированную сцену двух «старейших хасидов, жертвенно трудившихся во имя Вс-вышнего и еврейского народа в самые тяжелые и опасные годы... Сохранивших... Пронёсших... Передавших...»
Один из вышедших был ребе Авраам Генин из Москвы, другой – ребе Авром-Аба Эздрин. Оба, уже приодетые в местные наряды – шляпы, сюртуки – были растеряны от такого непривычного к себе внимания, шума, света, переполненности зала молодыми и бравыми, одинаково одетыми, бородатыми «последователями и наследниками».
Рассказав о былых делах и подвигах «старейших российских наставников», воодушевлённый ведущий приступил к «гвоздю программы». Он легко соединил достоинства приглашенных на сцену старцев с их тесной связью с «Любавичским Ребе – Королём-Мошиахом» и тотчас «предоставил им почётное право» публично декларировать «постулат веры – объявление Царства».
Я хорошо помню лица и фигуры, и срывающиеся голоса «подставленных» под это нововведение. В тот момент они казались репетирующими школярами, выставленными перед классом действительных наставников и учителей. Сначала под диктовку «молодого запевалы» они нескладно, вразнобой произнесли заветное: «Ихи Адонейну Морейну ве Рабейну...», а затем уже более уверенно и громко: «Да здравствует Господин наш, Учитель и Рав – Король Мессия Во веки Веков!» – под громогласное экзальтированное или скептически ироничное общественное «Амейн!».
Как неловко, как постыдно было мне смотреть на это вынужденное представление, как больно было наблюдать это митингование, участниками которого оказались совсем не склонные к этому, скромнейшие из скромнейших, мудрейшие из мудрейших и старейшие из старейших.
Мне и сегодня вспоминается реб Авром-Аба в хасидской синагоге в Ленинграде, лишь раз в году заводящий молодёжь и дирижирующий весельем на праздник Симхас Тойре. Забравшись на биму между танцами акафот, он размахивал рукою и кричал: «Цон а-Кодеш! Цон а-Кодеш!» (Святое стадо! Святое Стадо!), а разгоряченная, восторженная, смеющаяся паства изображала стадо овец, присев на корточки и отвечая Авром-Абе блея: «Бе-е-е-е-е! Бе-е-еееее!».
- Цон а-Кодеш!
- Бе-е-ееееееееее!!!
И реб Авром Генин вспоминается мне задушевным словом, ладонью положенной на руку, тихим семейным нигуном, проникающим в самое сердце, в подпольной квартирке, в Москве, на тайном приобщении к обету...
Какая же ЭТО БЫЛА ПРАВДА, какое же это было «АМЕЙН!»
Завет Авраама
Было ясно, что брит-милу, обрезание сына мне придётся совершить самому.
Ко времени рождения нашего первенца за моей спиной уже было несколько десятков мальчиков введённых мною в Завет Авраама. Не только надежда на личный опыт, практика тысячелетий и обетованное благословение Небес обязывали меня. Просто не было тогда в Ленинграде кого-либо другого, кому бы я мог доверить исполнение этого обряда, возложенного Законом на отца.
Всё происходящее в те дни было на столько само собой разумеющимся, неотвратимым и естественным, как роды, что я даже не испытывал страха, а только ждал предначертанного и неизбежного с трепетом и волнением.
Это было редкое и дивное чувство предвкушения Великого Чуда, которое вот-вот произойдёт, сейчас, здесь, со мной и с нами. Чудо, которое, возможно, изменит, перевернёт всё мироздание, весь Б-жий мир. То была радость погружения в заповедь, в мицву, растворение в ней, то был детский наивный восторг от сопричастности к вечному и святому.
Ещё в период застоя, ещё до перестройки, ещё на пике советской власти, ещё в ненавистной советской «давильне», ещё в безысходности побега, в нескольких сотнях метров от исчадия КГБ на Литейном – у «Большого дома» – происходило вневременное, свершалось невозможное: как установлено Законом, мне предстояло ввести своего сына в Завет Авраама.
Сын родился в понедельник, 11 ноября 1986 г. (тет Хешван) – значит, и заповеданный восьмой день приходился на ём шени – второй день недели по нашему календарю. День особый, его называют «паамаим ки тов», «дважды хорошо», потому что при Творении мира Всевышний дважды сказал в этот день, что мир хорош.
Таинство обрезания совершалось в нашей, ещё бабушкиной-прабабушкиной комнате, в коммуналке на улице Чайковского, 24, кв. 18 , где вещи, мебель да и сами стены помнили так много и столь многих. Все они, наряду с почти осязаемыми ангелами, собрались тогда в нашем доме. С фотографий смотрели предки, деды и прадеды, моя маленькая бабушка, быховская и сеннинская родня. Прадед мой, Менахем-Мендл, моэл, шойхет и меламед, сгинувший в блокадном Ленинграде, в хасидской ермолке и в лапсердаке снова торжественно восседал на стуле в кругу семьи. Прадед Азриэль, прославленный фельдшер, казалось, строго следил за порядком. На старинной картине «Канун Йом Кипур» в комнате, похожей на нашу, в подсвечниках горели свечи и старик-еврей благословлял детей и внуков. На стене, той, что в направлении Иерусалима, светилась карта Эрец Исраэль. Старинные часы из ковенской синагоги били свой бой, зазывая и тревожа убитых в Девятом Форту. Любавичский Ребе, тоже Менахем-Мендел, смотрел на нас с книжной полки. За окном над серым двором-колодцем нависало асфальтовое небо.
Было понятно, что сына мы назовём Менахем-Мендел. Менахем значит «Утешитель». Мы пригласили самых преданных и верных друзей: Даню и Сарру Фрадкиных, Мишу Бейзера, Сашу Шмушкевича и Нехаму Ковалерчик, а также немногих родственников (дедушек, бабушек малыша, прадеда со стороны его мамы Льва Василевского), нескольких наших учеников. На почётную должность сандека был приглашён р. Авром-Аба.
Изя Коган с семьёй буквально за несколько дней до этого улетел в Израиль, но успел сделать свою прощальную шхиту и вручил мне перед отъездом язык молодого бычка: «Пусть будет на брит! В знак моего присутствия с вами». Сарра Фрадкина спекла лекех. Вино мы тогда уже делали своё.
«Мазаль тов! Мазаль тов!», – приветствовал вошедший Авром-Аба, которого все уже ждали. Ему был приготовлен почётный стул возле большого стола в центре комнаты.
На столе уже лежали необходимые инструменты, прокипяченные в дедушкином ещё стерилизаторе. Специальный ножик, чтобы не затупился, хранился в банке со спиртом. Дощечка-решетка, к которой предстояло припеленать малыша, была покрыта матрасиком и застелена. Видавшие виды бокал для вина и молитвенник-сидур с русским переводом 1901 (5662) года тоже были на столе.
Младенца на матрасике вынесли из комнаты и тотчас снова внесли, передавая из рук в руки. Женщины остались в коридоре.
- Благословен грядущий! Барух а ба! Я рад слову Твоему, как тот, кто обретает большую добычу...
Малыша водрузили на Кресло Элиягу, а потом на стол – для удобства. Авром-Аба, покрытый талесом, склонился над ребёнком, крепко держа его, словно обнимая.
- Благословен ... , который освятил нас законами Своими и дал нам заповедь об обрезании!
- Амейн! Благословен ... заповедавший нам ввести его в завет Авраама, отца нашего! – ответили присутствующие…
Пока я возился со всеми необходимыми этапами: милой, прией, мцицей, молитвами и процедурами, перевязками и пеленанием, Авром-Аба подбадривал, одобряя и подсказывая, где надо, слова.
- ...Я проходил мимо тебя и видел тебя попираемою в крови своей, и Я сказал тебе: вопреки крови твоей живи! И Я сказал тебе: вопреки крови твоей живи! – малыш пригубил с соски вина.
- Сей малый Менахем-Мендел будет великим. Как он вошёл в завет, так да грядёт он к Торе, брачному балдахину и к добрым делам!
За окном был Ленинград, была промозглая осень, был ноябрь.
«Хорошо, хорошо, только надо бы немного побыстрее», – оценил Авром-Аба мою работу, улыбаясь. Он возложил руки на голову Менахема и благословил его благословением коэнов: «И благословит тебя, и сохранит, и озарит, и даст тебе мир...».
Потом, всё ещё прибинтованный к доске, Менахем-Мендл с мамой Мариной были отправлены на кушетку в угол, отделённый от комнаты старинным буфетом, а гости приступили к традиционной праздничной трапезе с нигунами и «Лехаим!».
Убедившись в моей компетентности, р. Авром-Аба стал рекомендовать меня тем редким, не связанным с религиозно-отказной компанией евреям, кто приходил в синагогу в поисках моэла.
Так, по его «наводке» мне довелось познакомиться с совершенно незнакомыми мне образами ленинградских евреев, которые втайне, не напоказ, среди, казалось бы, полного национального забвения, тем не менее свято соблюдали именно эту заповедь, что достойно особого описания.
И вот, что примечательно: клиенты, «сосватанные» мне Авром-Абой, очевидно, не без его участия, отличались неизменным настоятельным желанием вручить мне конверт с гонораром значительно большим того, что предполагался, как символический для обозначения участия родителей в исполнении обрезания. Вероятно, возможность личного участия в заповеди представлялась Авром-Абе положительной в самых разных аспектах этого явления.
Вскоре, незадолго до нашего отъезда на Святую Землю, я удостоился быть моэлом правнука Авром-Абы. А спустя три года р. Авром-Аба подстригал кудряшки Менахему-Менделу на его халаке уже в Иерусалиме.
 Александр Шейнин с женой и сыном в коммуналке на ул. Чайковского |
 Инструменты для обрезания сына Александра Шейнина, контрабандой доставленные из-за границы |
Выкуп первенца (пидьон а-бэн)
На тридцатый день после рождения первенец наш Менахем-Мендел подлежал обряду выкупа. Поскольку Храм всё ещё не был отстроен и храмовая служба была невозможна, то, согласно Закону и традиции, следовало освободить нашего первенца от необходимости услужения коэнам. Приобретение свободы обеспечивалось путём передачи коэну серебряного предмета значительного веса.
Однажды, когда мне предстояло с многолетним опозданием выкупить, наконец, самого себя у коэна (не папу же, тогда ещё коммуниста, было просить!), я выразил своё сомнение Ицхаку Когану (Изе), наставнику моему и почётному коэну: «Не хочу, мол, выкупаться, хочу служить Вам и Храму!» Изя меня переубедил: «Ну, и служи себе на здоровье как свободный человек, а не по принуждению! Так ведь гораздо приятнее!»
Посмеялись и приступили к обряду.
Единственным серебряным предметом, имевшимся тогда в нашем доме, был чудом сохранившийся, дедушки Жени, старинный портсигар, подарок от его тестя, прадеда моего Менахема-Мендела. Как объяснил мне по-дружески Изя, серебряный предмет, приобретённый коэном за выкуп, можно потом вернуть себе обратно, снова выкупив его за какую-нибудь символическую сумму.
Так мы и сделали. Я приехал на знаменитую дачу в Шувалово, Ицхак Коган совершил надо мною обряд, благословил по-коэнски и устроил мне и моим друзьям небольшой праздник «фарбринген», а потом подарил мне прекрасный хрустальный бокал для кидуша. Я его храню и сегодня. Впоследствии я перенял эту традицию дарения бокала и, когда делал кому-либо обрезание, старался подарить новорожденному бокал для кидуша – в России хрустальный за неимением серебряных.
Разумеется, серебряный прадедовский портсигар был тотчас выкуплен у Изи за несколько монет, и в тот же вечер семейная реликвия благополучно вернулась домой.
Итак, спустя несколько лет, мне предстояло выкупать Менахема. Изя был уже на Святой Земле и на пидьон а-бэн я пригласил р. Авром-Абу, а-Коэна. Дело было в коммуналке на ул. Чайковского. В качестве выкупа за сына снова был приготовлен прадедушкин антикварный портсигар. Передавая его Авром-Абе в обмен на получаемую сыном свободу, я не забыл рассказать о давней истории серебряной вещицы, отметив уникальность и красоту её и изящество... Взвесив портсигар на ладони, прикидывая его вес и достоинства, Авром-Аба кивнул в знак согласия на «сделку», совершил обряд, благословил младенца и гостей, а потом, положив мой драгоценный портсигар себе за пазуху своего пиджака, как ни в чём ни бывало, приступил к пению и знаменитым своим застольным историям.
Я немного заволновался, а затем, когда осмелился предложить Авром-Абе уже знакомый мне спектакль с обратным выкупом портсигара, всерьез испугался и даже расстроился – Авром-Аба ответил мне отказом: «Хорошая вещица и ребёнок славный – вполне достойный обмен. Всё по уговору и при свидетелях», – он посмотрел на присутствующих, ища поддержку. Те заулыбались, а я не понял, всерьёз это Авром-Аба сказал или пошутил.
Обидно было: за Менахема моего мне ничего не жалко, знал бы – купил бы что-нибудь заранее из серебра, только чтоб не этот семейный портсигар... По окончании застолья я снова обратился к Авром-Абе. На этот раз хитрая искринка его глаз немного обнадёжила меня: «Поменять, говорите, хотите? Подумать надо. Зайдите, может на той неделе, потолкуем. Такие дела сразу не делаются», – он похлопал меня по плечу.
Побегав немного по магазинам, я купил, наконец, в «Военторге» замечательный мельхиоровый поднос – для субботних хал или для кидуша сойдёт – и отправился в синагогу к Авром-Абе. Он встретил меня радушно, как всегда, поинтересовался ребёнком, делами. Потом покрутил в руках поднос, постучал по нему пальцами, посмотрел его на свет, потёр его край и согласился меняться! Он выдвинул ящик стола, вытащил прадедовский портсигар и, уже смеясь, протянул мне его.
Так он научил меня тому, что мицва – это не «как будто», не развлечение и не игра. Мицва должна быть на самом деле!
 Бокал «кос» (справа) – подарок р.Ицхака Коэна. Кубок на ножке (слева) – подарок Александра Шейнина его первенцу Менахему-Менделу в честь его рождения и обряда пидьон а-бэн |
 Портсигар прадедушки Александра Шейнина Менахема-Менделя |
Цон а Кодеш. Симхат Тора
Лет 30 тому назад в Ленинграде праздник этот назывался Симхас Тойре, и, несмотря на опасность быть узнанным и отчисленным из института, Лермонтовский проспект и двор синагоги заполнялись ликующей молодёжью.
Наиболее смелые дёргали гитары и распевали блатные куплеты из одесского фольклора: «Евреи, евреи, кругом одни евреи...», «Лимончики», «Мурка». Редко звучало идишское «Ломир алэ инейнем», «Тум-балалайка», а ещё реже – ивритское «Эвейну шолом алейхем». Но в основном стояли, переминались, подняв не то для маскировки, не то от ветра или моросящего дождика воротники, покуривали, тискали подружек, знакомились, иногда показывали письма из-за границы. Пара нищенок выпрашивали копейки, причитая что-то на непонятном мне идише, а какие-то тётки теребили за рукав и предлагали «шыдэх» – сватовство.
На ступенях стоял кто-то с плакатиком и номером телефона на нём: «Изучаем иврит», что по тем временам казалось явной провокацией, а номер телефона принадлежал КГБ. В толпе, кроме дружинников и милиционеров, крутились стукачи – «представители вузов», и вскоре после праздника вызовы на беседу и отчисления уличённых в «сионистско-религиозном сборище» не заставляли себя долго ждать.
Когда, наконец-то, получив диплом об окончании вуза, я осмелился открыто отправиться на Симхас Тойру в синагогу, я подсмотрел занятное, поначалу непонятное действо, происходившее не снаружи в многолюдной толпе, а внутри малого, полупустого тогда, хасидского зала синагоги.
Знакомый мне и уже тогда казавшийся старцем шамес Авром-Аба вдруг прерывал задорное пение и весёлые притопы прихожан громким призывом и взмахом руки: «Цон а кодеш!» ( Святое стадо, паства – в смысле, Народ Израиля, как я значительно позже узнал). Он чуть приседал, расставлял в стороны руки, словно пытаясь поймать разбежавшееся стадо или стаю домашней птицы и снова кричал: «Цон а кодеш!». Тут происходило невероятное: молящиеся и распевающие старички (ни молодых, ни детей, разумеется, в те годы внутри синагоги не было!), эти странные, загадочные, почти поголовно безбородые, такие советские, порой с орденскими планками на пиджачках, старички вдруг оборачивались в сторону Авром-Абы, и, приплясывая, кричали ему в ответ: «Бе-е- е, бе-е-е!».
«Цон а кодеш!», – повторял Авром-Аба. «Бе-е- е, бе-е-е!», – отзывались ему старые евреи, изображая святое стадо.
Эту отчаянную, надрывную игру последних, как казалось тогда, стариков ленинградской синагоги я вспоминаю каждый раз, когда участвую в великом веселье праздника Симхат Тора в Бат-Айне, на Святой Земле. «Цон а Кодеш!»,- кричит наш танцующий молодой меламед, изображающий Небесного Пастыря. «Бе-е-е!», – разносится радостное блеянье и смех нескольких десятков деревенских детей. Они бросаются прямо в распахнутые для объятья руки, а в воздухе уже летят пригоршни брошенных им конфет!
 Р. Авром-Аба во время трапезы. Фото из архивов Давида Фридмана Р. Авром-Аба во время трапезы. Фото из архивов Давида Фридмана |
Все фотографии, кроме последней, из архива д-ра Александра Шейнина
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2