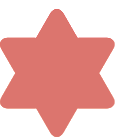18.07.2024
Ревекка Рыскина. «Моя жизнь»
С позволения Виктории Рыскиной, психолога и литератора из Петербурга, публикуем воспоминания ее бабушки, Ревекки Рыскиной. Это искреннее и глубокое повествование о детстве и родителях, еврейской жизни и подругах, о тяжелых 1920-х и эвакуации в Великую Отечественную войну. О послевоенном Ленинграде, невероятных лишениях и борьбе за жизнь дочери… «Когда я умру, это, наверное, сожгут», - написала она в одной из глав. Не сожгли. Благодаря внучке мемуары Ревекки увидели свет – они опубликованы на нескольких тематических порталах. Мы тоже не могли остаться в стороне и перепечатываем их слово в слово.
Но сначала – преамбула Виктории.
«Моя бабушка сделала то, что мне трудно было оценить при ее жизни – записала свою историю короткими главами и назвала просто и емко: «моя жизнь». Она начала писать, когда ей было за 60. Закончила незадолго до ухода – в 91. Каждая глава – не больше страницы, в каждой – событие, часто трагическое, и ее чувство, связанное с ним. Почему-то не хочется назвать это мемуарами, может быть потому, что она сама не считала это литературой. Это была потребность рассказать, связать, осмыслить историю жизни.
«Когда я умру, это, наверное, сожгут» – написала она в одной из глав. По «праздникам» – 7 ноября и 1 мая, мы приезжали к бабушке и дедушке на Свечной переулок. Праздничная сельдь под шубой, рыба, запеченная с морковью и луком, долгожданный лимонад буратино... И вот бабушка садится в кресло и достает очередную зеленую тетрадку. «Вам это, конечно, неинтересно...» Она вздыхает и начинает читать очередную главку.
Мне было 10, и я ждала чай и сладкое. А она читала и читала. У тетрадок не было читателя, а слушатели были слушающими поневоле. Не было ЖЖ, компьютера, была тетрадь за 6 копеек, шариковая ручка и желание рассказать историю. Теперь я часто перечитываю эти строчки, поражаюсь ее мужеству, наблюдательности и желанию выжить в невыносимых обстоятельствах.
Сейчас, когда ее нет, а текст этот размещен на разных сайтах, почему-то кажется – она это оценила и благодарна за то, что ее жизнь прочитана и дает силы другим».
Мини-фильм, который создала Виктория Рыскина по мотивам воспоминаний своей бабушки
Памяти евреев, погибших в Евпатории и памяти бабушки Ревекки Рыскиной (Эпштейн) - 1912-2003 - YouTube
Моя жизнь
 Ревекка Рыскина
Ревекка Рыскина
Время идет невыносимо быстро. Как было бы здорово, если бы человек мог останавливать время по собственному усмотрению; сколько можно было бы сделать за всю свою жизнь, но так мало отпущено человеку природой! Попробую вспомнить последовательно свою жизнь. Мне кажется, что пролетела она мгновенно, как сон. Пришла старость, нудная, противная, со всякими накопившимися за жизнь болезнями и усталостью.
Часть первая. Детство
Глава 1. Родители
Родилась я в 1912 году и помню себя с пяти-шести лет. Жили мы в Евпатории, чудесном уголке земли. Родителей, как ни странно, помню только в пожилом возрасте и не могу представить их себе молодыми. Отец был по профессии скорняк, «шапочник»: шил шапки из каракуля, ушанки и картузы. Мама моя была портнихой, работала, не покладая рук; всегда была в работе, всегда озабочена: шила, кроила, удовлетворяя капризы заказчиц. Себе же шила редко, времени не хватало. Для нас, детей, каждое платьице, сшитое мамиными руками, было праздником. Частые головные боли сваливали ее в постель; одолевала мигрень, экзема на руках мешали работать и совершенно не поддавались лечению. Грамотностью мама не отличалась, но читала и писала по-еврейски. В театр ходила редко, не было времени, но никогда не пропускала скрипичных концертов. Очень любила скрипку.
Мама в противоположность отцу была очень раздражительна, и нам, детям, часто влетало. Из-за каждой ерунды она выходила из себя и часто доводила себя до обморока. Папа был человек уравновешенный, спокойный и рассудительный, и его ничуть не волновало, что он маловато зарабатывал, что вызывало у мамы новые вспышки раздражения.
Глава 2. Переулок Ровный
Мы жили в переулке, который назывался Ровным; именно с ним связаны мои первые воспоминания.
Двор был большой, на крыше жили голуби, по двору ходили куры с петухом. Я знала стихотворение:
«Петушок, петушок, золотой гребешок.
Что ты рано встаешь, голосисто поешь,
Детям спать не даешь?»
Зиму не помню. Помню только тепло, солнце и шум моря. Стоило из дому выйти на улицу, вдалеке было видно море.
Потом была другая квартира. Помню, как выносили шкаф, стулья и другие вещи, а меня несли на руках в одеяле. Видимо, была больна. Помню, как меня поили касторкой и как было противно, как много было слез. Помню, как болела свинкой.
По утрам водовоз приносил воду в деревянных ведрах и сливал в бочку, стоявшую у нас в коридоре. Приходила молочница, приносила молоко.
Помню, как мама кормила меня кашей и поила какао.
После завтрака мчалась к морю, оно теперь было рядом: песчаный берег, ракушки, живые рачки, солнце вода! Из воды не вытащить. В тихую погоду вода неподвижна, прозрачна, чуть-чуть плещется о берег. Когда ветер, - море шумит, заливает берега, потом откатывается и с новой силой выплескивает очередную волну. Интересно было купаться в такой день, с размаха прыгать в набегавшую волну, только опасно: можно было захлебнуться. Но ребятам все было нипочем.
Глава 3. Город моего детства
Темнеет в Евпатории рано. В восемь часов уже совсем темно. Луна появляется позже, и ярко разгораются звезды. Тогда можно разглядеть Ковш Большой Медведицы и другие звезды. На море столько бликов от луны, что не отвести глаз. Можно часами сидеть на бульварной скамейке и смотреть на эту потрясающую красоту, как на сцену.
В те годы в городе было много людей разных национальностей: татары-крымчаки, караимы греки, евреи, русские и другие. Каждый занимался своим делом. Греки рыбачили, катали на лодках курортников. Татары торговали бахчей, фруктами. Евреи кустарничали. Предприятий крупных было мало, промышляли кто чем. Работали в санаториях, а пристани, на майнаках добывали соль.
Помню евпаторийскую толкучку.
Летом в Евпаторию наезжало лечиться много курортников, отдыхающих. Купались, загорали, лечились грязями, рапными ваннами или «диким» образом сидели в соленом озере (Сиваше), где много мелких красных червячков. Вода там очень целебная, а плавать можно было не уметь: вода, насыщенная солью, сама держала тело на поверхности, а опущенная в озеро ветка на другой день покрывалась кристалликами соли, как драгоценными камнями. Ездила я с мамой на лиман каждое лето. Мама лечила ишиас, а меня, купая в озере, лечили от золотухи. Дно озера мягкое, ноги утопали в грязи, которой люди мазали все, что болело.
Глава 4. 1918 год
Моего сознания не коснулись революция и трудности того времени. Я смутно помню выстрелы, беготню за закрытыми ставнями, испуганные лица взрослых. Для детей это был лишь эпизод. Мы визжали, играли с мальчишками в войну и с восторгом встречали и провожали очередные корабли. Пристань была совсем рядом.
В это время у меня появилась сестренка Лия, она была на шесть лет младше меня. Родилась Лия дома. Меня на неделю увели к папиному брату дяде Грише и тете Иде, которые тоже жили в Евпатории. У них было двое детей, Фима и Иосиф. Они были старше меня. Фима готовила меня к школе, а Иосиф на меня не обращал внимания: он совсем был взрослый, старшеклассник, и редко я видела его дома. Чистота у них была идеальная, всюду дорожки и ковры. Меня заставляли вытирать ноги и не сорить.
В их альбоме было много разных открыток, и мне разрешалось играть с ними. Я раскладывала их на столе и не скучала.
Спала я с тетей Идой в одной кровати и до сих пор помню ласковую, добрую женщину с красивой высокой прической.
С нетерпением ждала, когда за мной придет папа. Дома меня ждал сюрприз. Мне очень хотелось поскорее увидеть сестренку.
Вот я дома! В кроватке лежит смугленькая курчавая девочка с карими глазами, как у папы. Назвали ее Лия в память о бабушке. Я так мечтала, чтобы девочка скорее подрастала и понимала меня! Шестилетний разрыв долго сокрушал меня, тем более что до трехлетнего возраста она не говорила, чем вызывала беспокойство родителей и врачей. После трех лет Лия сразу заговорила, очень быстро догнала своих сверстников и оказалась очень способной девочкой. Фотография сохранила ее облик.
P.S.: Своих дедушек и бабушек (ни с папиной, ни с маминой стороны) я не знала и никогда не видела, ничего не знаю о них, о чем очень жалею. Даже рассказов о них не слышала.
Глава 5. Детская библиотека
Мое детство было связано с детской библиотекой. Заведовала ею Мария Васильевна, ее помощницей была Стира Вениаминовна Нейман. Что это были за чудесные люди и сколько сил и энергии они отдавали нам, детям! Мимо их внимания не проходил ни один ребенок: всех знали по именам, со всеми беседовали о прочитанном. Мария Васильевна допускала нас к полкам, разрешая самим выбирать книги. Часто устраивались утренники, беседы в читальном зале. Однажды на утренник я пришла с мамой. Беседа была посвящена И. А. Крылову, потом дети читали басни. Поставили и меня на стул, и я с выражением прочитала басню «Слон и Моська». Это было мое первое публичное выступление. Все хлопали, мама прослезилась от умиления. Мария Васильевна, снимая меня со стула, поцеловала. Как это было давно! Но я все хорошо помню, а ведь была совсем маленькая, раз стояла на стуле.
Эта детская евпаторская библиотека воспитала многие поколения детей и осталась в моей памяти на всю жизнь с ее чудесными работниками. Когда Лия подросла, я и ее водила в библиотеку, что мне доставляло большое удовольствие как старшей сестре.
Глава 6. Школа
Пришло школьное время. Я была мала, а школа далеко. Решено было программу первого класса пройти дома. Это было большой ошибкой. Я не успела привыкнуть к школьным порядкам, и мне было тяжело привыкать во втором классе. Дети были тут совсем свои, чувствовали себя, как говорят, «в своей тарелке», а я дичилась, стеснялась.
В школу мы ходили вдвоем с мальчиком Шуней; по дороге я за ним заходила (мы жили рядом и наши родители дружили). Мальчик был прилежный, но ябедник. Часто по этому поводу мы ссорились и даже дрались, что вызывало новые жалобы.
Ходить надо было на другой конец города, и вдвоем было веселее. Школа была частной и принадлежала Анне Павловне Рущинской; она же вела у нас географию. Была она высокая, статная, в черном длинном платье, на груди – золотая цепочка с часиками. Мы замирали при ее появлении. Она шла бесшумно и появлялась внезапно. Когда кто-нибудь отвлекался, заглядевшись в окно, Анна Павловна прерывала урок, называла его по фамилии и говорила: «Вот она – я».
Еще не успели отменить буквы «ять» и «еръ». Было трудно запомнить слова, где встречались эти буквы. После революции их отменили, и трудно было отвыкать от них.
В дальнейшем школа стала государственной, бесплатной. Образование стало обязательным. Анна Павловна так же преподавала географию и так же окликала нас, невнимательных: «Вот она я». Она была уже ни директрисой, а преподавателем.
Учеников стало много, и школе отвели еще одно здание. Появился новый предмет – татарский язык. Крым был Татарской автономной республикой, и татарский язык был обязательным уроком. По правде сказать, мы этот урок не любили и по мере возможности отлынивали от него.
Домой мы с Шуней выбирали самые сложные и трудные пути: шли по пустырям, перепрыгивали через лужи, карабкались по заборам. Были мы мореходами и путешественниками. Добирались долго. Приходили домой с мокрыми ногами, с грязными сумками, ибо ни одна лужа без нас не обходилась. Нам изрядно влетало, но назавтра это повторялось. По прямой дороге ходить было скучно, выбирали всегда окольные пути, которых было много в нашем городе.
Скоро с моим товарищем пришлось расстаться. Наша семья переехала в собственный дом на Пролетную улицу, купленный на две семьи папой и папиной сестрой тетей Соней. Было это далеко от моря, но ближе к школе.
Вспоминаю своих учителей. Стира Ильинична преподавала нам математику. Она рано умерла от воспаления легких. Хоронили всей школой. Мы ее очень жалели.
Мария Петровна, маленькая строгая учительница, учила нас русскому языку и литературе, Мария Ильинична – естествознанию. Это был мой любимый предмет. Очень любила я собирать гербарий, помогать обрабатывать коллекции в ботаническом кабинете. Мария Ильинична была у нас классным руководителем. Иногда мы ходили в степь, и там проходили занятия по ботанике. Растений, которые изучались, было много кругом: какие маки алели среди травы, какие были ромашки, клевер, колокольчики! Уходили домой с букетами полевых цветов.
Глава 7. Дом на Пролетной улице. 1920 год
В доме номер двадцать три на Пролетной улице прошла вся первая часть моей сознательной жизни: с восьми лет до момента отъезда из дома. Я не помню, как мы туда перебрались, просто помню, что мы там жили. Улицу со всеми ее изгибами, пересекающими ее переулками помню отчетливо. После каждого дождя лужи долго не просыхали, и это тоже запомнилось.
Двор наш был узкий, длинный, с колодцем посередине. Вода была не питьевая; мыли ею полы, стирали в ней белье, а летом опускали в колодец на веревках ведра со скоропортящимися продуктами (холодильников еще не было). На дворе росли две большие акации, на которые я очень любила забираться.
Соседей было много, но одну из квартир занимала наша семья, другую – тетя Соня с мужем. Детей у них не было. Дядя Ильюша был часовых дел мастер, работал в маленькой мастерской на Лазаревской улице. Всегда можно было его видеть в окне с лупой, склоненного над часами.
Был у них пес Бобик. Бобик был ужасно злой пес, никого в дом не пускал, рычал и лаял. Он был рыжий, мускулистый, с короткой шерстью, длинным туловищем, короткими кривыми лапами. Собака исподтишка хватала всех за ноги, и лучше с ним было не связываться. В нашем дворе все его боялись, особенно дети.
Собака была очень преданная и от своих хозяев не отходила, повсюду ходила вместе с ними.
Глава 8. Отъезд дяди Гриши с семьей в Израиль
Я плохо понимала, что происходит, и почему дядя Гриша, папин брат, с семьей перебрался к тете Соне, почему вещи были запакованы, почему все были озабочены и на нас с Лией не обращали внимания. В один из летних дней все вещи погрузили на подводу и увезли на пристань, и все стало ясно. После долгих ожиданий и сидений на узлах они отбыли в Израиль.
Грустные заплаканные лица, куча оставленных ненужных вещей, открытки, валявшиеся на полу… Все это напоминало о разлуке и огорчало нас: знали, что больше не увидимся, больше не соберемся за одним столом в пасхальный праздник, где проводился первый Сейдер со всеми еврейскими обрядами. После их отъезда все это ушло в прошлое, и теперь я очень плохо помню все подробности и что к чему.
Видимо, до Израиля они не доехали, а застряли в Соединенных Штатах. Первое время мы получали письма и фотографии, где Фима невеста. В дальнейшем письма перестали приходить, и мы потеряли их из виду. Помню, как Иосиф, который уехал раньше семьи, приходил прощаться. Это было еще на Ровном переулке. А потом, через два года уехала вся семья.
Глава 9. 1921 год. Голод
В свои девять лет я узнала, что такое голод. Родители делали все возможное, чтобы мы были мало-мальски сыты. Папа уже не шил шапок. Мама тоже не имела работы. Была безработица. Люди ели собак, кошек и даже детей. Дружила я в то время с дочерью раввина, жившего в нашем доме, - Лизой, моей ровесницей. Однажды, играя на улице, увидели на заборе разрушенного дома детскую посиневшую головку грудного ребенка. С плачем бросились домой. Это было так страшно! Мы долго боялись выходить на улицу. Говорили, ребенка съели цыгане, они воровали детей. Всякое было в то время, а разговоров еще больше.
Нам эта зима показалась очень длинной. Тысяча девятьсот двадцать первый год. Еще где-то шли бои, закрепляя победу Советской власти. В дальнейшем родители арендовали ларек и там продавали всякую мелочь, сахарин, газеты, конверты, конфеты. Мы с сестренкой оставались дома в ожидании мамы. Мама прибегала замерзшая, наскоро кормила нас пшенной кашей, стоявшей в печке, и убегала сменить папу.
Зима была в то время суровой.
Пришла весна. Кругом стояли развалины, видимо, все дерево пошло на топку.
Потом был НЭП. Начали открывать магазины, предприятия стали работать. Новая экономическая политика вступала в свои права. Это был выход из создавшегося положения. Жить стало легче и веселее. Я в этом вопросе, конечно, ничего не понимала тогда, но радовалась, как все.
Глава 10. Жизнь продолжается
В помощь голодающим стали приходить посылки из Америки. Открыли детскую столовую. Возле столовой всегда толпились дети, были и беспризорные. Ели каши, супы, пили какао. Организованно из школы шли парами ученики обедать.
Наш раввин ежедневно отправлялся в синагогу, там опять шло богослужение, громко пел «хазан» со слезой в голосе. Днем наш раввин резал кур евреям, которые употребляли кошерное мясо. Он надрезал курице горло, выпускал кровь и бросал ее на землю. Долго билась курица, роняя перья, пока не затихала. Смотреть на эту картину было невыносимо.
Часто с Лизой мы смотрели, как проходит служение в синагоге. Внизу молились мужчины, покрытые таласом и обязательно в головном уборе. Сверху, на втором этаже рыдали, читая молитвенник, женщины. Только в праздник Сушхайстейре все были внизу. Это был веселый праздник. В сентябре месяце заканчивали читать молитвы, помещенные в Тойре. Ее носили по синагоге на руках, народ ее целовал. Все танцевали и пели, а дети изо всех сил подражали взрослым.
Глава 11. Немного о праздниках
Больше всех праздников мне нравилась Пасха. Это был весенний праздник. К нему евреи готовились очень тщательно. Начинали с генеральной уборки: побелка, стирка. Перемывалось все в доме, каждый угол, столы, буфет. Старую посуду убирали и вытаскивали на свет пасхальную, которую не использовали в течение года. В доме исчезал хлеб. Появлялась маца в белых наволочках. Из мацы делали кнейдлах, кугели и разные другие яства на куриных и гусиных жирах от птиц, откормленных каждой семьей к празднику. Дети играли в орехи. У всех были обновы. Целую неделю ели мацу, хлеба в доме не было.
Родители были не очень набожные, но кое-каких обычаев придерживались. В праздник Пурим пекли гоменташи с маком, вареньем и посылали друг другу шалахмоны в узелках и в тарелках.
Очень грустный праздник Инкипер (Судный день). В этот день постились и молились целый день, поминая умерших родных. В Сукис раввин строил себе на дворе беседку и там кушали неделю всей семьей, хотя уже было прохладно – сентябрь месяц, осень.
В последствии синагогу разрушили неизвестно по каким причинам. Это было позже. Видимо, это сделали немцы или антисемиты. Когда я приезжала домой из Ленинграда, застала развалины.
Глава 12. На пустыре
Дома в нашем городе строят из желтого ракушечного камня. Добывают его на каменоломнях, где обитали в Отечественную войну партизаны.
К нашему двору примыкал пустырь: разрушенный дом и груда камней. Тут мы играли. Сюда приходили ребята из ближайших дворов. Играли в прятки, благо было, где прятаться, лазали по камням на крышу – оттуда хорошо была видна улица и другие крыши. Пытались что-то строить из камней, а потом играли в куклы.
Принимал участие в наших играх пес Валет: громко лаял, если не мог забраться к нам на крышу, помогал искать во время игры в прятки. Дворняга был умный и добрый. В дом его не пускали. Жил он в будке на дворе, и все живущие в доме его кормили.
В разрушенном доме мы устраивали представление. Вешали в простенке простыню вместо занавеса, из камней устраивали стулья для зрителей. На спектакль приглашали, раздавая билетики, написанные от руки. Пели, танцевали, читали стихи и разыгрывали сценки. Среди нас были дети и постарше меня. Это было очень увлекательно и интересно.
Летом ежедневно бегали к морю купаться. Наступал сентябрь месяц, - мы шли в школу, хотя солнце еще нещадно палило, и только ветер напоминал о том, что началась осень, и море покрывалось зыбью и делалось темнее. На игры уже оставалось совсем мало времени.
Школа и мамины окрики, - чтобы садилась за уроки. Ох уж эти уроки! Да еще когда на дворе почти лето и хочется бегать, купаться, гулять с подругами.
Глава 13. Школьные подруги
В школе у меня появились новые подруги. Мы недалеко жили друг от друга и были неразлучны. В школу заходили друг за другом и домой шли вместе. Иногда уроки делали за одним столом. Ирина Лейбова была еврейкой. У нее родители были лишены права голоса. Был у них маслобойный заводик. Помещался он у них на дворе. На мой взгляд, он был совсем небольшой. Там шелушили семечки и выжимали подсолнечное масло, а из отжимов делали макуху для скота. Обслуживали заводик пять – девять человек.
Мы часто забирались внутрь заводика посмотреть и полакомиться очищенными зернышками.
Было у Иры пианино, домой к ней ходила учительница, учила ее играть.
После НЭПа заводик у них отобрали, а их куда-то выслали, разлучив нас навсегда.
Другая моя подруга Тася – русская. Она была из рабочей семьи. Жили они довольно бедно. Отец часто выпивал, и я не любила к ним ходить: боялась пьяных.
Все окна у них были заставлены цветами, очень красивыми и ухоженными.
По духу она была мне ближе, чем Ирина, хотя та была еврейкой, да и, как говорится, безопаснее. Такое уж было время. Лишенцев было много. Дельных порядочных людей раскулачивали и ссылали, а пьяниц бедняков оставили, так получается. Но это уже политика. Бог с ней!
Страшное было время!
Глава 14. Скарлатина
Когда я была в шестом классе, меня внезапно свалила скарлатина и меня увезли в больницу. Форма болезни была тяжелая. Я долго была в тяжелом состоянии: высокая температура, боль в горле, рвота и очень ломило руки и ноги. К тому же болела голова. Никого в палату не пускали, но я слышала мамин голос то за дверью, то за окном.
Пролежала я долго. Помню, без конца смазывали горло чем-то горьким, кололи, заставляли пить лекарство, держать градусник. Когда мне стало лучше и мне разрешили вставать, мы с мамой виделись через окно. Часто приходил папа и подруги.
Шелушение длилось долго. Я насквозь пропиталась сулемой, которой мыла руки и предметы, которые были у меня в руках.
Несмотря на все предосторожности, заболела и сестренка. Лию в больницу не положили и держали дома, чем продляли мой карантин. Когда я вернулась в школу, шестой класс стал седьмым, я отстала. Оставаться на второй год не хотела и больше в школу не пошла. Надеялась продолжить свое образование в вечерней школе, которую обещали открыть в скором будущем. Пока помогала маме шить, надеялась научиться, но на это нужно было терпение не только мое, но и мамино, а его не хватало. Очень потом жалела, что не научилась шить, ибо шить я любила.
Глава 15. Тысяча девятьсот двадцать четвертый год
Нам не очень часто справляли дни рождения. Как-то у нас это было не принято.
Когда мне исполнилось двенадцать лет, родители устроили мне праздник. Я стояла перед зеркалом в новом маркизетовом платье. Оно было все в оборках. Очень нарядное. Я любовалась платьем и всем своим обликом и думала: «Мне двенадцать лет, и я родилась в двенадцатом году. Такое совпадение не даст мне забыть свои двенадцать лет».
У меня была короткая стрижка. Длинных волос я не носила: не было терпения заплетать. Волосы были слишком мягкие и для косичек не подходили. Все говорили: «Мягкие волосы, значит добрая». До сих пор не знаю, так ли это, ведь доброта – понятие растяжимое, как палка, что о двух концах. Да еще доброта – это проявление слабохарактерности. Вот то, что я нерешительная, несобранная, - это я точно знаю. Силу воли я вырабатывала в себе всю жизнь.
День рождения получился очень веселым. Было много гостей: подруги, друзья, соседи. Этот день рождения я запомнила и часто вспоминала нашу самодеятельность (песни, пляски, декламацию).
Глава 16. Пионеры города Евпатории
В городе появился первый отряд юных пионеров. Пионеры шагали по городу в ногу с песнями, барабанным боем и горнистом. Вожатый четко отсчитывал шаги: левой, левой. У всех красные галстуки и значки. Это было прекрасно и так заманчиво. Я смотрела и завидовала, а зайти в клуб не решалась. Смотрела через забор, как шагали ребята, как проводили сборы, занимались спортом. Ребята очень любили вожатого. Раздавался свисток – все замирали в строю, выносили знамя. «К борьбе за дело рабочего класса будьте готовы!» Дружное: «Всегда готовы!» и поднятая в салюте рука – все это положительно потрясало меня, и так это было все серьезно, что мурашки пробегали по коже.
Долго я ходила вокруг да около, пока решилась зайти в клуб и обратить на себя внимание вожатого. Сначала я очень стеснялась. Очень мечтала иметь галстук и отдавать салют, как все. На это пока я не имела права.
Первого мая я должна была стать настоящей пионеркой. После торжественного обещания. Этого дня мы с нетерпением ждали и к нему готовились.
Глава 17. Торжественное обещание. 1924 год
Накануне праздника был торжественный вечер, посвященный празднику Первого мая в клубе кустарей. Прошло много лет. У меня внучка пионерка, но я уверена, что она не запомнит день вступления в пионеры так, как запомнили его мы, первые пионеры того времени. Клуб был весь в цвету от плакатов и красного кумача. Душа витала в облаках. Зал был битком набит пионерами и взрослыми. Сидели и стояли, где кто мог. Шефы сшили нам формы, и мы в новых формах защитного цвета с ремнями и портупеями стояли на сцене и повторяли за вожатым слова торжественного обещания. Потом нам повязали красные галстуки. Потом призыв: «К борьбе за дело рабочего класса будьте готовы!». Мы, подняв руки в салюте, ответили: «Всегда готовы!» В зале стояла тишина. Зазвучал интернационал. Все встали. Пионеры стояли под салютом. Потом – град аплодисментов и поздравления. Это чувство передать просто невозможно!
С тех пор я с галстуком не расставалась. При встрече друг с другом мы отдавали салют, и сколько гордости было в этом, передать трудно.
Глава 18. Первое мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года
Эта демонстрация запомнилась, наверное. Потому, что это был праздник, в котором я сама непосредственно участвовала впервые. Я была частью всего этого торжества, а не праздным наблюдателем, как было раньше.
Мы шли в четком строю в пионерской форме под бой барабана и звуки оркестра. Вместе со всеми кричала: «Ура!» и пела пионерские песни. Мы участвовали в спортивных выступлениях, к которым упорно готовились заранее. По площади ходили пионеры, собирали пожертвования в МОПР, и, кто бросал в кружку мелочь, тому прикалывали значки.
Демонстрация кончилась. Мы счастливые возвращались домой. Жизнь била ключом в вихре пионерских дел и забот.
В те годы пионерские отряды были при клубах. Я была в отряде пионеров при Клубе кустарей. Мой папочка был кустарь-одиночка, имел маленькую лавчонку, где шил и продавал сшитые им же картузы, зимние шапки. Я всегда носила им сшитые ушанки.
Глава 19. А дел было много. 1925 год
Пионерские времена, пионерские дела… Все это в памяти о приятном прошлом. Сборы, звеньевые занятия, стенгазета. Писали ее от руки и рисовали заголовок и карикатуры. Редколлегия была из грамотных ребят, умеющих рисовать и редактировать заметки. К праздникам писали лозунги, растянувшись на полу. Учились стрелять, собирать и разбирать винтовку, оказывать первую помощь; изучали азбуку Морзе и привыкали ходить в противогазах на занятия МПВО.
Был у нас в городе Центральный Дом пионеров. Туда отправлялись строем на сбор дружины, в которую входили все отряды города. В Доме пионеров бывать было очень приятно. После сборов проводили подвижные игры, соревнования по шашкам, шахматам и разные другие мероприятия. Очень любили игру «Иголка и нитка».
Вожатые были у нас освобожденные, много старше своих воспитанников и отдавались полностью воспитанию юного поколения. В любое время можно было застать вожатого в клубе. Работал в клубе драмкружок. Каждый из нас был в душе артистом и каждый мечтал получить роль.
Все мы были членами Осовиахима, МОПРа, Красного Креста. Ничто не проходило мимо нас, пионеров. Мы были в курсе всех событий в стране, изучали политграмоту. Нагрузки принимали охотно. Были горды и счастливы, когда нас куда-нибудь выбирали и что-нибудь поручали. Добросовестно выполняли поручения.
Глава 20. Я – рабкор
Каждый их нас в детстве и даже отрочестве немного поэт, немного прозаик, артист и мечтатель. Вот и я пробовала писать стихи, мне казалось, что это прекрасно; то я ударилась в прозу, написала смешной рассказ о том, как чужой кот забрался под комод и был виден хвост, черный, длинный. Сестренка закричала: «Змея!» и подняла рев на весь дом. Все сбежались, но подойти близко боялись. Когда наконец нашелся смельчак и с большой предосторожностью выудил «змею» за хвост, это оказался кот с длинным черным хвостом. Глупая история. Я же всем читала и думала: «Буду писательницей!» Чудачка!
Вела я много лет дневник, вкладывая в него свои сердечные дела, свои радости и огорчения, впечатления и мечты и прятала его от всех посторонних глаз. Однажды попробовала написать заметку в «Пионерскую правду». К моей радости, заметка появилась в газете. Внизу была моя подпись: Эпштейн Р. С тех пор я часто писала, искала интересный материал из жизни пионеров. Если корреспонденция не печаталась, я получала от редакции объяснительное письмо: почему не напечатали с просьбой писать еще. Это тоже была радость.
Однажды пошли в другой отряд (отряд водников) для обмена опытом. Увидела я там в темном пыльном углу знамя и написала заметку «Знамя в паутине». Заметку поместили, да еще с картинкой. Вот была радость! Долго я хранила вырезки из газет и свой дневник, но во время войны все пошло в печку. Были блокадные годы в Ленинграде, и родители мужа голодали, мерзли и погибли от голода в эти страшные военные годы.
Глава 21. Умер Ленин
Перед глазами траурная демонстрация, флаги с черными лентами. Митинги на площадях, куда шло беспрерывным потоком население. Пионеры несли свои знамена и портрет Ильича в траурной рамке. Вступали в отряды новые пионеры, обещая быть верными заветам Ильича. Читали стихи о Ленине, которых стало очень много и которые хорошо запоминались. На сборе, посвященном В.И.Ленину, я читала:
Не стало Ленина,
Зияет в сердце рана,
И сердце мечется, неистово крича.
Не стало Ленина,
Стучит в мозгу упрямо.
Не стало Ленина,
Не стало Ильича.
Безыменский.
Много стихов я заучила наизусть и читала на всех самодеятельных вечерах в клубе в честь В.И.Ленина:
А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частичку нашего тепла.
Глава 22. Спорт. 1925 год
Спорт в моей жизни занимал особое место. Спортзал, где я занималась легкой атлетикой, был очень хорошо оборудован, и тренер был отличный. Были соревнования по бегу, прыжкам через планку и в длину и так далее. На дворе играли в волейбол, бегали, прыгали, занимались гимнастикой. Однажды случился со мной казус. Упражнялись на кольцах. Сделала «лягушку». Возвратиться в исходное положение забыла как. Закружилась голова, и я грохнулась вниз животом. Тренера в то время не было. Ушиблась я сильно. Два дня болел живот и все части тела. Дома родители возмущались, потом все обошлось. Опять висела на кольцах, забиралась на канат под потолок, бегала стометровку, прыгала через планки, играла в волейбол. Тренер нас учил плавать, грести на «гичках», этих длинных узких лодках, в которые одновременно сидело девять человек. На каждого – по веслу. Одновременно поднимались весла и по счету опускались в воду. Красиво, быстро мчались лодки вперед, разрезая носом гладь воды.
Это было самое счастливое время в моей жизни, но это можно сказать теперь, когда жизнь пробежала и есть, с чем сравнивать. Была молодость, и все было еще впереди.
Глава 23. Лагерь. 1925 год
В пионерском лагере мне довелось побывать один раз.
В лагерь мы добирались пешком с самодельными рюкзаками на плечах. Путь был длинный. С одной стороны Евпатория примыкает к морю, с другой стороны раскинулась степь. Ветер шевелил посевы и роскошные полевые цветы с ярко-красными маками.
Несколько раз устраивали привал, отдыхали, подкреплялись захваченными из дома бутербродами. Пришли к лагерю уже к вечеру, отдохнули и поселились в палатках.
По утрам нас будил горн. Потом – подъем флага, зарядка, завтрак и – к морю! В это время в море было очень много медуз. От прикосновения к их щупальцам очень долго жгло тело. Помню, как один мальчишка катался по песку и орал во все горло от боли (кстати, он мне нравился). В воде медуза – как прозрачный цветок, отражающий в себе все цвета радуги. На берегу, куда мы их вытаскивали, чтобы не мешали купаться, - теряли форму, превращаясь в студень, бесформенную массу.
Мы не только отдыхали, мы по мере возможностей старались помогать нашим шефам. Был поход на сусликов, которые поедали большое количество пшеницы. Собирали колосья, оставшиеся после уборки урожая.
Играли в войну в группе Буденного. Отряды делились на две группы: махновцы и буденновцы (буденновцы – с красными повязками). Игра длилась целый день. Мы преследовали друг друга. Территория была большая, и наша разведка заблудилась, попав в незнакомую деревню. Идя обратно, сбились с пути. Стало темно и страшно, а лагеря не было.
Вечером все собрались на линейку для спуска флага. Не досчитались пятерых ребят. Подняли тревогу. Зажгли факелы, забили в барабаны, кричали, аукали. Пошли искать, разбившись на группы. В степи ни души; трещат кузнечики, темно. В Крыму, если нет луны, ночи очень темные. В пяти шагах друг друга не видно. Через два часа нашли горе-разведчиков в трех километрах от лагеря, уставших, голодных. Все хорошо, что хорошо кончается. Они услышали крики, увидели огни факелов и откликнулись.
Последний день лагеря. Грустно расставаться. Сдружились за это лето.
Стемнело. Запылал последний костер. Пели наши любимые песни: «Картошку», «Мы кузнецы», «У попа была собака…», «Баклажка», «Взвейтесь кострами…» и многие другие.
Утром свернули лагерь. Вещи свалили на подводу. Сами с вожатым пошли по полю, уже убранному от хлебов, со скирдами, сухим кураем, гонимым ветром.
Глава 24. Несчастье. 1926 год
Пока я была в лагере, нашу семью постигло несчастье. На папу напали бандиты. Приняв его за дядю Ильюшу – часовых дел мастера. Время было неспокойное, Пролетная улица не освещалась. Дядя носил заказы домой, боясь оставлять в мастерской. Было поздно. Хулиганы спутали и стали приставать к папе, требуя отдать часы. У папы на руке были часы, и даже золотые.
Стал папа с ними бороться и кричать. В окнах стали зажигаться огни. Вот тут прозвучал выстрел. Хулиганы скрылись.
Было непонятно, как отец нашел в себе силы добежать домой, отдать маме часы и потом самостоятельно отправиться в больницу и только там упал, потеряв сознание. Мама, ничего не понимая, бежала следом за папой. Дома была паника. Маме было не до нас. Большую часть дня она была в больнице, поручив нас соседям. Тетя Соня привела рабочего и велела выбить в ранее забитую дверь дыру, следуя каким-то приметам.
В больнице папа пролежал долго. Пулю извлечь не удалось: застряла она слишком глубоко и близко от сердца, прижилась там. Неуютно себя чувствовала в плохую погоду, хотя и обросла жиром.
Поймали хулиганов или нет, я, к сожалению, не помню. Помню дыру от пули на пальто, которую всем показывали. Главное, папа был жив.
Глава 25. Сестра. 1924 год
Мама ждала третьего ребенка, а волнений в это время было, хоть отбавляй. Девочка родилась тогда, когда папа вернулся после больницы домой. Между нами была большая разница в возрасте. Я была на двенадцать лет старше младшей сестры.
Итак, нас стало трое: Рива, Лия и Зоя. Каждая на шесть лет старше другой.
Однажды девочку испугала собака, и она заболела. Может быть, это было совпадение, а может быть, испуг повлиял на мозг. Признали менингит. Зое в это время было уже три года.
Долго болела Зоя. Мама не спала по ночам и потеряла всякую надежду спасти ребенка. Ходил к нам детский врач, который всех нас лечил. Потом был консилиум из трех врачей. Надежды не подавали. Девочка была без сознания. Уговорили маму поспать. Остались у кровати папа и я. Вместо бульона папа нечаянно влил сестре в ротик горчичную воду, оставшуюся от обертывания. Девочка закашлялась, открыла осмысленные глаза и попросила хлеба. Мама рыдала от счастья. Зоя поправилась, хотя росла нервной и проявляла раздражительность во многих ситуациях.
Расстались мы с ней в тысяча девятьсот сорок первом году не в лучших отношениях. Все время она на меня косо смотрела и в эвакуацию так со мной и не поехала, чем обрекла себя на погибель, а меня на страдания и вечные переживания о невыясненных отношениях.
 Сестры Зоя и Лея. Погибли в Евпатории в 1942, расстреляны фашистами на Красной горке.
Сестры Зоя и Лея. Погибли в Евпатории в 1942, расстреляны фашистами на Красной горке.
Глава 26. Тетя Соня
Тетя Соня была папиной родной сестрой, и помню я ее очень хорошо. Подарила мне она золотое колечко с камешком. Сколько было радости! Я его не снимала с пальца ни днем, ни ночью все любовалась им. К большому огорчению, это длилось не долго: соскользнуло колечко в море при купании. Какое это было огорчение. Передать трудно. (Получила – радость, потеряла – огорчение). Я ныряла, шарила по дну, пока не посинела от холода. Пропало оно бесследно, видимо зарылось в песок, и я его не нашла. Домой пришла в слезах, но разве найдешь иголку в стоге сена?
Печально сложилась судьба тети Сони. На вид жили они с дядей дружно, всегда ходили вместе и, несмотря на это, он имел связь и на стороне, может быть и случайную, но, как бы то ни было, родилась двойня. У тети детей не было. Делать было нечего. Дети перетянули. Да тетя и сама это отлично понимала и не возражала. Осталась тетя одна с Бобиком. Очень быстро стала стареть, перестала за собой следить. Что-то покупала, что-то продавала, тем и жила.
Вот такая трагедия осталась в памяти, хотя в то время я всего не понимала.
Глава 27. Южный берег Крыма. 1927 год
Было у меня в жизни еще одно приятное событие накануне вступления в комсомол - поездка по Южному берегу Крыма. Это было замечательное событие, оставившее много впечатлений.
Пароход отчалил от пристани, держа курс на Севастополь. Чайки парили в воздухе. Мы бросали им хлебные крошки, любуясь их полетом. Птицы с громким криком на лету ловили хлебные корм, продолжая лететь за пароходом. За бортом резвились акулы; их хорошо было видно с палубы.
Настроение было отличное. Впереди – целая жизнь, и казалось, что всегда будет так: ясно, празднично, как эта бескрайняя голубая вода. Хотелось обнять весь мир с его красотами, которые было просто трудно впитать в себя.
Морская гладь переливалась под солнечными лучами, а кругом – горизонт и ничего больше.
Вот и Севастополь.
Город мне показался трудным. Подъемы, спуски, изломанные улицы. Это было непривычно по сравнению с Евпаторией, расположенной на абсолютной равнине, с ее плоским пляжем.
Осмотрели все достопримечательности. Больше всего времени ушло на осмотр панорамы обороны Севастополя.
В Балаклаву нас довез автобус. Долго мы там не задержались. Впереди был тяжелый путь до Ялты.
Прошли Алупку. Зелени мало. Горы. Зной. Только парк при бывшем дворце царских вельмож свеж и зелен.
В Семеизе отдохнули немного. В Ливадии прожили неделю. Спали в школе на полу с рюкзаками под головой. Было неудобно, зато весело. Ходили по окрестностям, купались.
Ялта меня поразила своим побережьем. Вместо песчаного пляжа был каменный, купаться было неудобно: сразу было глубоко и очень опасно, если не умеешь плавать.
Поднимались к «Ласточкиному гнезду» на гору. Обедали в столовой с довольно невкусным обедом.
В парке было много кутов с лавровыми листьями. Набрали для мам листьев столько, сколько могли унести. Вечером пароход увозил нас обратно. Плыли ночью, и никаких особых впечатлений эта ночь не предвещала. Ясное звездное небо, плеск волны о борт парохода и шум мотора.
Красиво Черное море в предрассветный час. Удивительные переливы: голубые, зеленые и еще какие-то волшебные оттенки.
Утром были дома. На пристани было людно. Встречали прибывший пароход. В отряде делились впечатлениями, рисовали альбомы, писали в стенгазету и долго были под впечатлением от похода. Там, в походе меня называли Риммой, и мне нравилось это имя больше, чем Рива. Конечно, тут играла роль национальность. Она всегда играла и играет роль, и тогда, и теперь.
Глава 28. Комсомол. 1927–1928 годы
Вот и наступил этот день: меня принимали в комсомол. Предварительно готовилась: изучала Устав, занималась политграмотой. Тайно тревожилась из-за собственного дома у родителей. Такое уж было время, и во всем и во всех видели «чуждых».
В это время мой отец с тетей решили передать дом в ЖАКТ. Постройки наши в узком дворике требовали большого ремонта, крыша текла, и после голодных лет средств на ремонт не было. Это был лучший вариант: отдать, пока он совсем не развалился, в руки государства. Вместо домовладельцев мы стали просто съемщиками. Никто уже не тыкал пальцем и не упрекал нас в том, что мы собственники; я же была счастлива. Преград нет. Мы нищие.
Написала заявление, получила рекомендации и после хождения по инстанциям была принята в ряды ВЛКСМ. На груди заблестел значок КНМ.
Кустари все же не считались пролетариями, и пришлось поволноваться на комсомольском собрании, когда отовсюду сыпались вопросы о происхождении. Но вот волнения остались позади. Я стала комсомолкой.
Теперь это делается, наверное. Проще. Ни дачи, ни машины никого не смущают. В то время самые неимущие были в почете.
Глава 29. Еще о папе. 1928 год
Во время НЭПа папа опять стал кустарничать, в одиночку арендовал маленький закуток на толкучке, там кроил, строчил и там же продавал свои изделия. Я всегда носила ушанки папиного производства. Потом, после смерти Ленина, время НЭПа закончилось, организовались артели, и папа пошел в артель шапочников. Артель была большая. Работать в большом коллективе ему было очень трудно. Соревновались. Папа не привык к такой гонке. Надо было не отставать от других. Кустаря-одиночку никто не подгонял. Работал, как мог, по мере сил.
Как я уже писала, отец был грамотным человеком, а в то время это ценилось. Грамотных было мало. Стал папа секретарем по профсоюзной линии. Зарплата была небольшая, и этого не хватало семье. Помню, как отец дома до поздней ночи строчил подкладки для зимних ушанок в дополнение к заработку – для артели.
Еще мне помнится, была у нас знакомая семья интеллигентов. Папа там очень любил бывать. Ему были близки и интересны все тамошние разговоры. Бывало, засиживался там до позднего вечера, чем вызывал мамино возмущение. Как потом узнала, когда стала постарше, - там был и сердечный интерес, который вызывал дома бурю негодования у мамы. Трудно теперь судить все тогда происходящее. Ведь в каждой семье бывают недоразумения. Но мамино неудовольствие до сих пор помню, ее слезы и гнев.
Очень я любила с отцом ходить в театр. Он меня охотно брал с собой, мой дорогой папочка. Однажды приехала труппа лилипутов, и с их участием я просмотрела все оперетты Кальмана и других композиторов. На гастроли приезжали и оперные труппы, и драматические театры. Замечательный в Евпатории театр! Светлое пятно в моих воспоминаниях.
Всегда перед глазами у меня мой милый добрый отец, который приобщил меня к прекрасному и привил любовь к книгам, но возмущался, что плохо воспринимаю грамматику (а писала я, как слышала, с ошибками).
Глава 30. Синяя борода. Агитбригада.1928 год
В клубе ежедневно проводились репетиции «Синей бороды». Готовили программу для агитбригады. Потом отправились по району. Каждая такая вылазка доставляла удовольствие как нам, так и тем, к кому мы отправлялись. Принимали хорошо. Размещали по избам, кормили.
В одной из деревень вечером, после рабочего дня состоялся наш спектакль. Клуб был переполнен. Сбежалась вся деревня. С нетерпением ждали начала. Вот подняли занавес, начался спектакль. У меня была роль. Где я должна была плакать и причитывать, провожая любимого на войну. На самой середине спектакля, когда зал с напряжением следил за действием. У меня сорвался голос, и я не могла произнести ни единого слова, как ни старалась. С трудом выдавливала из горла шепот.
Опустили занавес. Я с плачем убежала со сцены, забилась в дальний угол двора. Старалась прийти в себя, откашляться, чтобы наладить как-то голосовые связки, но ничего не получалось. Мне было до слез обидно и стыдно. Я испортила настроение присутствующим в зале и подвела товарищей.
Отыскали меня ребята, стали успокаивать. Женщины увели к себе и пытались отпаивать молоком с медом. Так и не пришлось сыграть свою роль. Голос и на утро не восстановился. Меня заменили другой девушкой. Я была зрителем.
Пробыли в этой деревне три дня. Потом все поехали дальше, в другие колхозы. Я попутной машиной отправилась домой лечить горло. Такая была неприятность.
Глава 31. На уборке урожая. 1928 год
Лето было жаркое. Созрели хлеба. У райкома комсомола стояли машины. В кузове было тесно от битком набитых вещами мешков и молодежи.
Последние напутствия провожающих, и машины тронулись в путь. Мы отправлялись в колхоз помогать убирать урожай. Ехали с песнями, шутками. Было весело, хотя жарко и душно.
Нас ждали. Мы были нужны, и это вселяло в нас чувство гордости. В то время я дружила с Мусей Сницер (Муся умерла после войны). Мы держались вместе. С ней мы вместе вступали в комсомол.
Устроили нас в клубе. На полу было сено для сна. На козлах – длинные доски вместо столов; здесь мы питались. Выделили нам и повариху.
На работу будили в шесть часов утра. Мы скирдовали сено, работали у молотилки, ссыпая золотистое зерно в мешки, готовили пшеницу для будущего урожая, пропуская через аппарат с химикатами (от вредителей). Крутили ручку вручную по очереди. В конце дня так уставали, что с трудом добирались до своего жилья и бросались в душистое сено. Спали без сновидений до утра. Никому в голову не приходило отлынивать, работали с энтузиазмом, усердно.
Пробыли в деревне месяц. За это время нас навестили родители, навезли городских гостинцев. Колхоз кормил нас незамысловато (щи, каша или картошка). На прощанье устроили для колхозников концерт. С тем же концертом ездили в соседний колхоз по просьбе председателя. Вернулись домой усталые, загорелые, с обветренными лицами и исколотыми соломой руками, но довольные, с хорошими характеристиками и благодарностями.
Жизнь снова ритмично запульсировала: спорт, драмкружок, политзанятия, комсомольские собрания. В школе уже не училась. Работы пока не было, устроиться было трудно. Безработица. Тысяча девятьсот двадцать восьмой год.
Я заскучала.
Глава 32. Икор. 1928 год
Оставшееся летнее время я провела в деревне Икор. Мамина заказчица Рахия Салита, жившая в еврейском колхозе, пригласила меня погостить у них в деревне. Это был вновь построенный поселок с недостроенной школой. У многих в домах были земляные полы и не отштукатуренные стены. Жили здесь евреи, которых переселили на землю, хозяйничали со знанием дела, с задором и смекалкой. Впоследствии колхоз выбился из первоначальной нужды и стал колхозом-миллионером. Забегая вперед, скажу: несмотря на романтику и энтузиазм, с которыми молодежь работала, все же она потянулась в город. Постепенно оставляли родителей после окончания тамошней школы, уезжали учиться дальше и, конечно, не возвращались, выискивая свой путь. Оставались одни старики. Пока же, в мою бытность, молодежи было много, было шумно и весело. Там я познакомилась с Катюшей, с которой мне довелось дружить до самого конца ее жизни. Была она веселая девушка с чудесными ямочками на щеках, с вьющимися волосами, находчивая, остроумная. Катя была близорука, носила очки. Катя очень располагала к откровенности, умела слушать, была решительна. Энергична, полна оптимизма. Я этих качеств не имела и, грешным делом, любила опеку. С Катей было спокойно и легко.
Катина семья жила в недостроенном доме с еще земляным полом. Стены были обиты дранкой, еще не отштукатурены.
Смутно помню ее маму, тихую, как мне показалось, женщину и старшего брата, запрягавшего лошадь на дворе.
Чтобы не было жарко, мы стелили постели на полу и долго шептались о сердечных делах, которые в нашем возрасте уже были, как и у других наших сверстниц. Было нам вместе удивительно хорошо.
Катя умерла в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году от диабета.
Вечером, после рабочего дня в поле молодежь собиралась на улице. Под звуки гармони пели, танцевали или гуляли, разбившись на парочки. Время пролетало незаметно. Надо было возвращаться домой.
Мама встретила меня настороженно; ей непонятно было, что дочь выросла, у нее появились свои интересы, свои душевные переживания, что дочь стала почти взрослой. Мой товарищ, с которым мы писали в газету, работали с октябрятами и просто дружили, симпатизируя друг другу, написал мне письмо без задней мысли и отдал маме для передачи мне. Письмо родители вскрыли, прочитали и мне не передали. Дома я его прочитала. Письмо было дружеским: о наших комсомольских делах, об октябрятах, которыми мы командовали, и только одна фраза о том, что он скучает, ждет не дождется, когда я приеду, смутила покой моих родителей. Начались разговоры, внушения. В результате была разбита такая хорошая теплая дружба. Я стала избегать встреч, чем вызвала его недоумение. Дружба померкла. На душе стало впервые тоскливо и неинтересно. Досадовала народителей и на себя.
Парень этот погиб во время войны: был танкистом. Звали его Миша Мазо. Он оставил сиротами двоих дочек.
Позднее я встретилась с его женой и детьми в Москве, когда была там проездом, возвращаясь домой в Ленинград после победы. Работала она в детском саду, где были и ее девочки. На этом наше знакомство закончилось, и о их судьбе ничего не знаю, о чем жалею.
Глава 33. Первые мои работы
Наступила осень, и одновременно с ней началась моя первая работам. По просьбе мамы меня взяли ученицей в швейную мастерскую по пошиву верхней мужской одежды. Целые дни разжигала утюги, раздувая угли. Вытаскивала наметки из законченных изделий, пришивала пуговицы. Вначале было интересно, потом наскучили и утюги, и пуговицы. Вещи были тяжелые, грубошерстные. Окружение мне претило. Одни портные. Портних не было. Шить я любила, но на этих тяжелых грубошерстных вещах учиться было тяжело и скучно. Ушла, не проработав месяца. Если бы это были легкие ткани и хорошие доброжелательные люди, я, наверное, отнеслась бы у этой профессии серьезней и научилась бы шить по-настоящему, это стало бы моим призванием. Тут сыграло роль и мое легкомыслие (я мечтала шить, а меня заставляли разжигать утюги).
Открылось новое производство - солемолка. Безработная молодежь бросилась туда, и я с ними, оставив ненавистный утюг, который никто не хотел разжигать, и поэтому это занятие поручали всегда ученикам. Электроутюгов тогда еще не было.
Итак, я стала работать на солемолке. Мололи тут на специальной мельнице крупную соль, превращая ее в «Экстру». За длинными столами сидели женщины, клеили коробки, наполняли их молотой солью, заклеивали. Рабочий укладывал пакеты в ящики и заколачивали их. Вот и я сидела за таким столом, клеила коробки, наполняя их солью.
Был тут и другой цех – ракушечный. Картонные изделия обклеивали ракушками в разных художественных вариантах. Этими сувенирами была богата Евпатория, и без них курортники не уезжали. В этом цехе работала одна из моих подруг, Бетя Мазо, сестра Миши Мазо. Мы вместе занимались спортом. В комсомол она не вступала.
Временами мы дружили. Девушка она была непостоянная, обидчивая, часто меняла подруг. При малейшей обиде месяцами не разговаривала не только с подругами, но и со своими родными. Такой уж был характер возмутительный.
Работа мне нравилась своим темпом, соревнованием, которые придавали особое настроение и интерес тому, что мы делали. Но вот прошел год, и я стала задумываться. Никаких перспектив, никакой специальности. Родители были такого же мнения. Мне хотелось самостоятельности и чего-то особенного. Жизнь двигалась вперед, надо было спешить. Все наши ребята понемногу разъезжались из родных мест кто куда. Гриша Моняк, наш заводила, уехал в Москву в Институт журналистики. Я завидовала его настойчивости и способностям. Летом все съезжались, и мы опять гурьбой ходили по нашей милой Лазаревской улице из конца в конец по много раз. Провожая друг друга, простаивали у ворот часами.
Дружила я тогда с Гришей Моняком. Гриша погиб в войну. Он был снайпером. Оставил жену и двоих детей.
Оба моих друга, Миша и Гриша погибли на поле брани. Обидно и горько.
Но опять я забегаю вперед. О последующих событиях – в следующей части.

Часть вторая. Жизнь довоенная. 1924–1930 годы
Глава 1. Город Витебск
Наступила осень. Все разъезжались, и я рискнула покинуть дом. Это был 1929 год. Отправлялась я в город Витебск. Там жила мамина племянница Люба, мне она приходилась двоюродной сестрой. Мне было семнадцать лет. Напекла мама мне на дорогу пышек, надавала всякой снеди и проводили меня родители к поезду.
Первый раз из дома, первый раз по железной дороге самостоятельно. Немного было страшно, немного радостно.
Поезда шли плохо. По дороге наш вагон оцепили и загнали в тупик. Непредвиденная пересадка. Как сейчас чувствую тяжесть корзинки и узла с постелью. С трудом тащила вещи, торопясь за другими пассажирами. Пока добралась до нужного вагона, онемели руки.
Вот и Витебск. До сих пор не знаю, почему меня не встретили. Взяла извозчика, назвала адрес.
Встретили меня сдержанно, но приютили. Отвели место для раскладушки, которую Саша купила. Днем я ее убирала.
Моя сестрица была высокая некрасивая женщина и особой приветливостью не отличалась. Муж, мрачный, ворчливый человек, портняжил. Люба ему помогала. Было у них двое детей: Абраша уже учился, девочка Песя родилась с уродливыми ногами, вперед пятками. Ее несколько раз оперировали, но сделалось только хуже. Все же она передвигалась самостоятельно, и опять-таки вперед пятками.
Пока я не работала, пришлось мне отводить ее в детсад и приводить обратно. Ходить ногами ей было трудно, просилась на руки. Когда опускала ее на землю для передышки, поднимала рев и жаловалась маме. Люба на меня сердилась.
Устроиться было нелегко. Выстаивала в очереди на бирже труда. Работы не было. Помог райком комсомола, куда я обратилась, послал меня временно в финотдел.
Глава 2. Финотдел
В большом зале за перегородкой мне отвели стол у окошка. Ведала я картотекой, где числились все частники города Витебска, облагаемые налогами. Выявляла задолжников и злостных неплательщиков, писала повестки и квитанции для оплаты налогов. У окошка всегда была очередь. Выясняли недоразумения или просили отсрочить платежи. Это было еще полдела. Хуже было то, что меня включали в бригады, ходившие на обыски, где описывали имущество у задолжников. Все это обычно происходило ночью. Испуганные, растерянные лица, слезы, возмущение плохо действовали на мою психику. Хотелось плакать и прятаться за спинами других.
Описывали: серебро, золото, деньги, мануфактуру и разные другие ценности (после нэпа). Все это подлежало конфискации.
Приходила домой ночью. Приходилось стучать, чем вызывала недовольство домочадцев.
После таких вылазок на душе – полное опустошение и гадливое неприятное чувство к себе и своим довольно бесцеремонным сослуживцам. Мне явно не подходила такая работа, характер не тот.
В свободное от работы время занималась спортом. Посещала тренировки с большим удовольствием, как дома, только я была старше и чувствовала, мыслила совсем по-другому, да и окружение было другое. Посещала комсомольские собрания, участвовала в самодеятельности, читала стихи. Участвовала в культпоходах в театры. Молодежь тут была интересная, и я не скучала, хотя все мероприятия проводились на белорусском языке.
В финотделе меня приняли в профсоюз. Это давало право на работу в первую очередь. Период с недоимками подходил к концу. Частники сворачивались. Мне предстояло сокращение. Время нэпа уходило в прошлое. Жаль было неприкаянных людей, которым некуда было себя девать; никуда их не принимали.
Был у меня тут дружок. Ходили вместе в театр. Парень был приятный и веселый. Звали его Коля (фамилию не помню).
Время комсомола. Вечера. Дела, дела…
Глава 3. Совершеннолетие
Стираются в памяти мелкие события. Смотрю на свое отражение на фотокарточке. Я снималась в Витебске в день своего совершеннолетия. На мне новое платье с модными рукавами и крепдешиновой вставкой, сшитое Любой из присланного мамой материала к дню моего рождения. Помню, к этому дню я купила себе первые туфли на высоком каблуке.
Мне было грустно вдалеке от дома. Так хотелось отпраздновать этот единственный, неповторимый день с родными. Из дома пришла телеграмма, посылка, из которой я угощала домочадцев. Пришло письмо от Гриши Моняка с фотокарточкой, где он лучше, чем в жизни, с наилучшими пожеланиями.
Время шло, перевалило через барьер Совершеннолетия и поплыло дальше в неизведанное. Детство осталось позади, юность тоже была на исходе.
После шестимесячной работы в финорганах было сокращение. Меня уговорили поработать на Лесопильном заводе. Это было далеко, сообщение было неудобное, работа не понравилась. Целый день надо было высчитывать кубометры распиленных досок. Это быстро наскучило.
Завод сам по себе мне понравился, было интересно. Огромные штабеля досок, распиленные и уложенные в клетку для просушки, вызывали удивление. Любила смотреть, как их пилят на пилораме.
Стало тепло. Река Западная Двина растаяла, и уже нельзя было ходить по льду. Ходила в обход.
С приобретенными на прежней работе друзьями не встречалась; разошлись наши пути-дороги. Сердце заныло по дому. Не долго думала. Купила билет, собрала «монатки».
Тут пробел в памяти. Не помню сборов, как попала в поезд, кто
провожал.
Витебск мне понравился. Речка. Мосты, рынок. Уютный город, красивый. Не знаю, каков он стал после войны. Говорят, восстановили в лучшем виде.
Глава 4. Домой
Много лет прошло. Время отсчитывает мои годы. Наплывают воспоминания. Ясно помню свои восемнадцать лет, насыщенные многими событиями и романтикой.
Домой приехала в конце лета внезапно, без предупреждения. Радость родителей, сестренок не описать. Сбежались соседи, подруги, Саша. Всех навещала, купалась в море. Очень соскучилась по всему.
На следующий день пошла на биржу труда и по предъявлению профсоюзного билета была вне очереди направлена в Паевой Стол. В 1930 году была карточная система, и я выписывала хлебные и продуктовые карточки. Опять пришлось заниматься недоимками, но уже в порядке комсомольской нагрузки: нас мобилизовали для взыскания налогов. В то время это было «гвоздем программы» в Евпатории. Налоги были большие. Дело шло к ликвидации частной торговли, нэпа в Евпатории. Где только не приходилось бывать: на пересепи, на грязных окраинах города, где жили татары. Оставляли повестки или получали налог, выписывая квитанции. Ходили попарно. Люди попадались разные, бывали очень озлобленные.
Это был последний год, проведенный дома.
Вечерами ходили в клуб, театр; бродили у моря и мечтали о будущем. У всех моих товарищей оно сложилось по-разному. У каждого своя судьба в жизни.
Глава 5. Джелал
Заведующим Паевым Столом был молодой высокий парень Коля Валендовский. Он был так высок, что мне приходилось задирать голову, разговаривая с ним. Как ни странно, я ему нравилась, и он часто объяснялся мне в любви. Я «возмущалась», убегала от него; мне казалось, что он шутит. Мы такие были разные. Подарил он мне фотокарточку, которая до сих пор хранится в альбоме.
Наступила осень, и я дала согласие ехать во вновь организованный Фрайдорфский район. Через два месяца моего пребывания вне дома пришло известие: от пневмонии умер Коля Валендовский. Короткая оказалась у него жизнь. Тут было над чем подумать. От потрясения долго не могла прийти в себя.
Работала я в деревне Джелал в потребкооперации (сокращенно РАИПО) сначала статистиком в плановом отделе, потом меня перевели в бухгалтерию на картотеку. Эта работа мне понравилась. Любила считать на счетах, хотя сразу было трудно. По три-четыре раза пересчитывала столбики цифр, и каждый раз получались разные результаты. (Сейчас все это делается на машинках.) Все же натренировалась, и дело пошло на лад. Работать было интересно. До сих пор благодарна нашему главному бухгалтеру (фамилия его была Фижгойт, имя не помню), научившему меня счетному делу и терпеливо прививавшему мне любовь к этой профессии. Этой профессии я не изменила до самой пенсии.
На первом комсомольском собрании меня избрали секретарем комсомольской ячейки. Завертелось! Дела, заботы. Скучать не было времени.
Жили мы втроем в одной комнате и работали все в конторе. Лена была плановичкой, очень умная, начитанная девушка. В городе она работала в библиотеке. Вечерами мы слушали ее рассказы о прочитанных книгах, о виденном в театре, в кино. Она хорошо рассказывала, и мы заслушивались ею допоздна. Лена была старше нас, и было у нее чему поучиться. Отличная была у нее память. Однажды она простудилась и слегла, горлом пошла кровь. Мы перепугались, вызвали мать, и она увезла ее в город.
Другая подруга - Роза Перцовская. Маленькая, шустрая, полненькая, как колобок. Звала я ее в шутку «Симпампончик». Родители Розы жили в Еврейском колхозе переселенцев. В комсомол она не вступала, может быть, из-за непролетарского происхождения не решалась. На землю переселяли не пролетариев, а мелких торговцев и выходцев из других промежуточных слоев населения.
Мы обычно держались вместе. Вместе ходили в столовую, читали, дома варили картошку на примусе, привезенном из дома. Свободное время проводили в клубе. Там и газета, и самодеятельность, и кружки, и спорт, и даже танцы, хотя в это время танцы считались мещанством.
Райком комсомола находился в самом Фрайдорфе. Очень часто я туда ездила верхом на лошади. Это было большое удовольствие: восемь километров пути, кругом – никого, степь и степь. Изредка затарахтит телега, слышно, как трещат кузнечики. Лошадка была смирная, шла спокойно, чувствуя не совсем уверенного седока. Привяжу лошадь к забору, – стоит, ждет. Справлюсь со своими делами, заберусь обратно – и назад. Той же дорогой. Лошадь была без седла, это немного осложняло мою романтическую поездку: сидеть было твердо и неудобно
Глава 6. Всадница. 1930 год
Вспоминая еще одну лошадь. Никакого сравнения с той, на которой привыкла ездить в Фрайдорф. Этот конь был из племенных лошадей конного завода. Высокий, с гладкой, выхоленной блестящей шерстью, с тонкими стройными ногами. Ежедневно его прогуливал конюх Костя, приучая к седлу. Очень я любила лошадей. Это чудо природы, друг человека. Много тысячелетий лошадь служит людям верой и правдой, как на войне, так и в мирное время. По всей вероятности, если бы на земле не было лошадей, вряд ли человек стал бы человеком, таким, каков он есть. Теперь век машин, и лошади ушли на задний план. Когда я вижу лошадь, я машинально останавливаюсь и провожаю ее взглядом. Она вызывает какое-то благородное чувство в моем сознании.
Мечтала прокатиться на этой красивой лошади. Наконец решилась. Костя подставил ладонь, и я взлетела в седло. Почувствовав седока, конь тряхнул головой, фыркнул, потоптался на месте и вдруг сорвался и, как вихрь, помчался вскачь, пытаясь сбросить меня. Из стремян выскочила нога, поводья было не удержать, они вырвались из рук. Вцепилась руками в гриву, стараясь удержаться в седле. Страх обуял меня.
Куда мчалась лошадь? О чем я думала? Трудно вспомнить. Очнулась на земле далеко за деревней. В глазах все плыло, стучало громко сердце и звонко тикали часы на руке. Шумело в ушах. Стоит недалеко гнедой, щиплет траву и косит на меня глаза, большие, умные. К месту происшествия бегут люди.
Денек пролежала с компрессами. Все в жизни проходимо.
Верхом на лошадь больше не садилась.
Глава 7. Конец Джелалу. 1930 год
Всю мою комсомольскую юность велась компания борьбы с недоимками. Этим пришлось заниматься и тут, в деревне.
На двуколке с одной лошадью я с напарницей объезжала деревни, входящие в Фрайдорфский район; собирали налоги с единоличников. Сама работа была не из приятных, но как было интересно двигаться вперед по степи, по необъятному простору под мерное постукивание лошадиных копыт и скрип колес. Разные люди, разные места.
В это время приехала мама навестить меня в отпуск. Мне же все было недосуг; я все мчалась куда-то, до всего мне было дело. Все бы бросить, побыть с мамой. Ан нет, долг превыше всего! Была мама у меня две недели, а виделись урывками. Уехала мама без меня, н дождавшись. Было досадно и стыдно, что так мало уделила внимания своей маме. Молодо – зелено.
Прошла зима, весна. К лету районы объединили, и наше учреждение ликвидировали. После этой нудной, трудоемкой ликвидации со всякими актами, списаниями, передачами я вернулась домой. Было лето 1930 года, и пролетело оно, как сон. Все хорошее и приятное пролетает быстро, а плохое тянется долго и нудно.
Глава 8. Город Симферополь. 1930 год
Был август, и было время подумать о своем будущем. Куда и на что употребить себя, и на что я гожусь.
Зимой в городе затишье. Молодежь разъезжается, кто куда. Дома мне не сиделось. Летом к нам приехал в отпуск мой двоюродный брат Миша Эпштейн, сын папиного брата Харитона. Жили они в Симферополе. Было у Миши еще два брата, Леня и Лека.
В Симферополе жили еще два папиных брата, Михаил и Фроим. С ними мы общались редко. Папа обычно заезжал к Харитону или к своим друзьям, с которыми я тоже была знакома. Иногда папа брал меня, маленькую, с собой в Симферополь.
Две недели летом 1930 года мы с Мишей провели вместе в Евпатории. Купались, загорали, бродили по дюльберу, курзалу и мечтали о Ленинграде. Сфотографировались на берегу моря на память. Смотрю на эту фотографию. Такие молодые, счастливые, полные радужных надежд. На обратной стороне снимка надпись: «Следующая встреча в Ленинграде».
Решено было съездить в Симферополь попытать счастья. Сестренка вдруг расплакалась: «Я еще в Ленинграде не была, а Рива уже в Симферополь едет». Это было смешно! До Симферополя шестьдесят километров, четыре часа езды.
Хороший город Симферополь, но жаркий. Моря нет. Мелкая речушка Салгирь. Летом она совсем высыхает. Мы с Мишей объездили и обошли город и пригород вдоль и поперек. Устроиться на работу тут тоже было непросто. Да и сердце не лежало к этому, мечтала о Ленинграде.
Погостила две недели и уехала обратно с твердым намерением ехать в Ленинград.
Глава 9. Ленинград. Сентябрь 1931 года
Рахиль Салита, жительница Икора, мамина заказчица, переехала в Ленинград. Это была единственная зацепка. Ею я и воспользовалась. Написала письмо с великой просьбой помочь мне. Ответ пришел положительный. Немедля тронулась в путь. Недаром в детстве меня звали Стрекозой.
После моего отъезда родители получили телеграмму с просьбой повременить с приездом: трудно с пропиской. Но поезд уже мчал меня к заманчивому городу.
Перед отъездом дала телеграмму Грише Моняку, думала, встретит в Москве, а там, чем черт не шутит, может, Москва приглянется; но Гриша был в командировке и мою телеграмму получил с опозданием.
Встретил меня Ленинград дождем. Сдала вещи на хранение и пошла искать свою землячку. Рахиль развела руками. Ее предупредительная телеграмма меня не застала. Делать было нечего. Приютила.
В квартире жила бывшая домовладелица, она смотрела на всех злыми глазами и часто ругалась по любому поводу. Я ее боялась. Хозяйку уплотнили, оставили ей одну комнату, заваленную вещами, коврами, картинами, стоявшими на полу у стенок. Была она зла на все и всех.
Я ходила по квартире «тише воды, ниже травы», старалась не показываться ей на глаза. О прописке нечего было и думать. Вышел указ: не прописывать иногородних. Я была на нелегальном положении.
Жила Рахиль на Достоевской улице в девятиметровой комнате, окна которой выходили во двор и упирались в стену противоположного дома. В комнате был мрак, все время горел свет.
Решено было пока ознакомиться с достопримечательностями Ленинграда, а там будет видно, - думали мы. Так и порешили!
Глава 10. Хочу знать город. 1931 год
Раньше всего мне хотелось увидеть Невский проспект, мельком увиденный по приезде. Я слышала, что Ленинград очень красив, но то, что я увидела, было выше моего представления. Неудивительно. Этот город творили великие архитекторы, скульпторы. Огонь их воображения будет покорять всегда и всех смертных многих поколений, если ленинградцы сумеют его сохранить.
Рассказ мой будет не полным, если я не опишу хотя бы вкратце то, что я увидела и услышала о Ленинграде.
Невский проспект пересекают три водные артерии: Мойка, канал Грибоедова и Фонтанка. Аничков мост на Фонтанке, обрамленный фигурами вздыбленных коней, - самый красивый из семи мостов, нависших над рекой. Все они когда-то, в 1730 году, были одинаковые, с башенками на манер Чернышева моста. Со временем перестраивались. Неизменными остались только Чернышев и Калинкин мост.
Скульптуры коней лепил и сам отливал скульптор Петр Клодт – великий любитель лошадей. Он же творец шестерки вздыбленных коней на Нарвских триумфальных воротах, где я тоже побывала.
На Невском проспекте в это время асфальта не было. Были деревянные шашки и рельсы, шел трамвай. Народу было много, море голов. Все куда-то спешили. Я лихорадочно держалась за свою спутницу, боясь затеряться в толпе.
***
На другой день я опять пошла на Невский проспект. Что ни шаг, - то история. Екатерининский садик. Все скамейки заняты. Люди подкармливают птиц; там их много, совсем ручные.
Памятник Екатерине II со свитой. Ходила вокруг, смотрела, читала и никак не могла насмотреться. Екатерина стоит лицом к Невскому проспекту, с другой стороны – Александринский театр, ныне –драматический театр имени А. С. Пушкина, - и весь ансамбль архитектора К. И. Росси. Просто, красиво, благородно (слов не подобрать). Лошади над главным фасадом театра.
Много в Ленинграде лошадиных скульптур: дань единственному в прошлое время средству передвижения, единственному труженику в крестьянстве, на стройках в содружестве с человеком.
Вечером нельзя отвести глаз от Елисеевского магазина, так он сверкает своими зеркалами и позолотой.
Казанский собор – одно из примечательных сооружений города. Создали его Андрей Никифорович Воронихин и простой народ с неутомимыми руками. Сто шестьдесят лет стоит собор, строился с большим запасом прочности. Стоит незыблемо со своей изумительной колоннадой.
При входе в собор – торжественная тишина. Могила фельдмаршала Кутузова, трофейные знамена, огромные ключи от завоеванных им городов. Просто цепенеешь, возвращаешься на сто пятьдесят лет назад, в прошлое. На площади перед собором – памятник М. И. Кутузову и Барклаю-де-Толли, героям войны тысяча восемьсот двенадцатого года (работа скульптора Б. И. Орловского).
Напротив – Дом книги. Строил его Зингер, фабрикант, производящий знаменитые швейные машинки. Над крышей помещено изображение земного шара, который Зингер собирался опоясать своими швейными машинами. Хорошие были машины, мама работала на такой: легкая в работе, бесшумная, с круглой шпулькой, с хорошей строчкой. Остались на память ножницы, сточенные до предела, производство «Зингер», а машина в войну исчезла, кому-то понравилась.
Исаакиевский собор…
Я стояла очарованная, когда передо мной открылся вид на Исаакиевскую площадь. Впечатление потрясающее. Сколько величия, красоты, строгости и благородства! Огромный собор с колоннами из сплошного камня (архитектор – Огюст Монферран). Даже не верится, что люди, не имея никаких современных кранов, с помощью таких простых орудий, как пилы, топоры, лопаты, молотки, тачки и, очевидно, веревки, с помощью лошадиных сил сумели соорудить своими руками такое чудо из чудес. Идешь рядом, и кажется: по сравнению с собором ты – пылинка.
Ходила с экскурсией в собор, поднималась наверх, видела Ленинград с высоты птичьего полета.
В центре площади – конь, на нем Николай I (фигуры всадника и коня выполнил П.К.Клодт). Около памятника всегда туристы с фотоаппаратами.
***
Экскурсии продолжались!
Я жадно впитывала в себя все то новое, что давал мне этот изумительный город. Все хотелось посмотреть. Я была неутомима. Рахиль водила меня по городу, она тоже еще не успела все посмотреть.
Итак, Дворцовая площадь. Подойдя к Главному штабу, я увидела на арке, ведущей на площадь (архитектор – К.И.Росси), колесницу с шестью конями (скульпторы – С.С.Пименов и В.И.Демут-Малиновский). В центре площади - Александровская колонна, увенчанная ангелом (архитектор – Огюст Монферран). Ничего лишнего: строгость линий, торжественность, простор.
Дворец смотрит одной стороной на площадь, другой – на одетую в гранит Неву. Я, видевшая простор Черного моря, стояла восхищенная красотой реки Невы. Вдалеке видны Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова и мосты, мосты.
В дальнейшем я побывала в Петропавловской крепости и в Эрмитаже, любовалась красотой Адмиралтейства (архитектор – А. Д. Захаров), шпиль которого виден со всех концов этого волшебного города, существованием своим обязанным Великому Петру I. Он навечно восседает на коне, придавив копытом Змею на Сенатской площади (ныне – площади Декабристов).
Летний сад…
Это сама история!
Напротив него – первая постройка в Санкт-Петербурге, домик Петра I; в то время был он деревянный, из бревен. Теперь на него надели каменный футляр, чтобы сохранить подольше для потомков. Я бы на него надела стеклянный колпак, было бы намного зримей.
Когда смотришь и слушаешь, попадаешь в мир прошлого. Стоит этот домик 270 лет.
В саду растут деревья тех времен. Скульптуры в саду – привезенные еще во времена Петра из-за границы. Еще одна достопримечательность – замечательный памятник И. А. Крылову работы П. К. Клодта с изображением героев его басен вокруг него.
Еще Ленинград славится своими решетками, оградами – чугунными кружевами. Решетка Летнего сада – самая красивая, можно сказать, знаменитая. Делали ее по проекту архитекторов Ю. М. Фельтена и П. Е. Егорова.
Эти места самые старинные в Ленинграде.
Напротив Летнего сада, через дорогу – Михайловский замок, где нашел свою кончину Павел I. Перед входом верхом на лошади Петр I и надпись: «Прадеду правнук. 1800 год». Тут же Михайловский сад. Старые деревья, видавшие виды прошедших лет. На берегу канала – павильон Росси, там обычно мужчины играют в шахматы или домино. Задний фасад Русского музея прилегает к саду. Тишина. Мерещится прошлое, ушедшее в вечность время, оставив на камне свои следы.
На мосту старинные фонари. Когда-то их зажигали вручную. Мерещатся дамы в пышных платьях, мужчины в цилиндрах, кареты, коляски, запряженные лошадьми.
Так я побывала в прошлом. Надо было возвращаться в настоящее и позаботиться о своем житье-бытье. То, что я еще не успела посмотреть, я надеялась увидеть позже.
Глава 11. Хождения по мукам. 1932 год
Как говорится, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Начались мои «хождения по мукам».
Был у меня адрес маминой заказчицы. Нашла ее быстро. Жила она с мужем на берегу канала Грибоедова. Был у них большой белый пушистый кот. Держали они домработницу, хотя детей у них не было. Каждое лето они приезжали в Евпаторию на курорт лечиться, но детей все равно, увы, не было. Звали ее Зиной (отчества не помню). Дама была «пикантная»: кольца, серьги, браслеты. Занята туалетами, визитами, театрами. Не работала, но всегда была занята.
Мои заботы не вызвали у нее сочувствия, помочь в смысле прописки, жилья не пыталась, хотя обещала узнать и кое-что сделать. Я ежедневно к ним являлась, чтобы услышать: «Завтра, послезавтра». Потом надолго потеряла надежду и перестала к ним ходить. Моей радости не было границ, когда я узнала, что Катя, моя любимая подруга, с сестрами в Ленинграде. Итак, наши дороги опять сплелись. И, стало быть, молодежь из деревни, Икора стала разъезжаться. Ведь Рахиль тоже из Икора.
Глава 12. О любви все сказано! 1932 год
Отправились мы с Рахиль в Малков переулок. На шестом этаже огромного дома мы встретились с Катей. Жила она с сестрами в продолговатой тринадцатиметровой комнате. Как говорится, «в тесноте, да не в обиде». У них всегда была молодежь, было весело, распивали чаи, играли в карты, домино. Звучала гитара.
Как ни странно, встретила я тут, у Кати, свою судьбу – человека, с которым прожила пятьдесят один год. Часто сидим, вспоминаем молодость.
Знакомы мы были всего две недели, потом он пошел в армию на срочную службу. Осталась я с его родителями, которые жили в Дмитровском переулке в маленькой одиннадцатиметровой комнате. Даже сейчас удивляюсь: как это мы там помещались?
Мы были молоды. Мне было девятнадцать лет, ему двадцать два года. Он хорошо играл на гитаре, мандолине. Часто собирались товарищи, чтобы помузицировать – кто на балалайке, кто на гитаре, кто на мандолине.
Старики были добрые, местечковые евреи, которых сын привез к себе из Черикова, чтобы быть вместе. Читать, писать по-русски не умели, зато хорошо знали еврейскую грамоту. В городе еврейская молодежь изъяснялась и училась на русском языке, а еврейский язык мало-помалу забывался. К сожалению, нынешняя еврейская молодежь совсем не знает своего родного языка. Очень скорбно.
Свадьбы шумной не было! Зарегистрировались в ЗАГСе на Невском проспекте пятого апреля тысяча девятьсот тридцать второго года. Выпили с родителями по рюмочке настойки, и тем дело кончилось. Отныне мы стали вдвоем шагать по жизненному пути, преодолевая все трудности, деля между собой и радости, и невзгоды.
Звали его Рыскин Давид Захарович, по паспорту Зусевич. Я стала тоже Рыскина Ревекка Самойловна, раньше была Эпштейн. Теперь я была прописана в Ленинграде и была полноправной жительницей города.

Устроил меня мой муж туда, где он сам работал и откуда ушел в армию, оставив меня вместо себя.
Глава 13. Рабочая специальность. 1932 год
Наконец началась трудовая жизнь в городе Ленинграде. Это было тяжелое время моей жизни. Работа была непривычная, но мне надо было поступить на рабфак, а для этого надо было иметь рабочий стаж. Определили меня на револьверный станок нарезать резьбу. Латунь была вязкая, дымилась, ломалась, и все надо было разбирать, раскручивать, потом собирать и начинать сначала. Руки мои огрубели. Станочная грязь въелась в поры рук и ничем не отмывалась.
Потом перевели на конвейер по сборке электросчетчиков. Было много разных операций. Я сверлила на станке мрамор. Приходилось работать ночью, подготавливая заготовки на дневную смену.
Тут тоже были свои трудности. Неосторожное движение, и угол мраморной заготовки обламывался и деталь шла в брак. Работать было тяжело, но я не отступала. Надо было работать, деться было некуда. Зарплата была маленькая, сдельная.
Глава 14. Мама
Дорогая моя мамочка!
Могла ли она сидеть дома, если события так быстро разворачивались у ее дочери?
Работала она в артели закройщицей. Выпросила отпуск и примчалась в Ленинград.
Пробел в памяти. Не помню, как встречала, как мы разместились в этой комнатке. Муж, правда, уже был в казарме. Служил он в Прожекторном батальоне тут же в городе.
К сожалению, видела его мама один только раз, когда мы провожали его в лагеря. В восторг она не пришла ни от моей работы, ни от жилищных условий, и с мужем тоже не успела поближе познакомиться. Почти весь отпуск сидела за иглой, меня обшивая и свекровь. Дома осталась семья, работа. Надо было прощаться!
Обе плакали о том, чего уже не вернешь – годов юности, а семейная жизнь со всеми ее «вариациями» - очень сложная «штука», и мама это отлично знала. Мне же это еще предстояло узнать.
Глава 15. Рабфак
На рабочий факультет меня приняли, как только я принесла справку о месте работы. Учиться и работать оказалось не так легко, как мне казалось. После рабочего дня, отмыв с трудом масленые руки, бежала домой обедать, потом – в рабфак. Родители мужа очень хорошо относились ко мне, ухаживали, кормили. Первый год я одолела легко, материал был знакомый. Меня премировали спортивным костюмом, хотя спортом я уже не занималась. На это не хватало времени. Дальше дело пошло труднее. Я до того уставала, что к концу уроков боролась со сном, глаза слипались. И так изо дня в день.
Домой, где меня ждали с ужином, приезжала усталая. Когда делала уроки? Сама не помню. Утром надо было рано вставать и бежать в мастерскую. Вот где я пожалела о своем легкомыслии. Будучи дома, можно было только учиться днем.
Я совершенно не помню ни одного человека, с кем училась, и ни одного педагога рабфака, хотя очень хорошо помню школьные годы, учеников и преподавателей.
Глава 16. Служба в армии. 1933 год
С виду Давид Захарович был тихий, скромный товарищ. В армии он был парторгом и отличником военной и политической подготовки. Пользовался авторитетом у начальства и товарищей.
Пока служил, у него там появились друзья. Дружбу с ними мы не прекращали и на гражданке. Друзья ведь приобретаются в молодости, а потом, к старости, друзей не приобретешь, да это уже будут не друзья, а просто знакомые или приятели.
С армейских времен есть два друга наших лет. Один товарищ, Пидман Л., воевал, остался без пальца. Его жена – тоже участник войны и тоже была ранена. Другой товарищ, Элькин Илья, трудился в тылу, делал танки для фронта. По сее время мы поддерживаем с ними дружбу.
В армии нам посодействовали с жилплощадью, учитывая наше безвыходное положение. Предложили нам двадцатиметровую комнату. Это было нежирно на две семьи, но, по сравнению с нашей «конурой», это был «дворец», хотя комната была над аркой, отопление печное (парового тогда не было). Мы не стали ждать мужа. Взяли у дворника тележку и втроем в два приема переехали на новую квартиру на Звенигородскую улицу, 24–4. Это была коммунальная квартира, в которой было еще две семьи.
Служба шла к концу, и надо было устраиваться капитальней, тем более, к тому времени мы ждали пополнения семьи. Должен был родиться сын.

Глава 17. Наши друзья
Жизнь шла своим чередом в прежнем темпе. Работала, училась. Только самочувствие меня то и дело подводило: тошнило, мучила изжога, которую ничем не могла угомонить, клонило ко сну. Беременность была тяжелой.
Меня перевели в кладовую на выдачу и учет инструментов, где работал Саша Старобинский, друг моего мужа. Были они ровесниками, вместе работали. В армию его не взяли из-за язвы. Этот человек был верен нам все пятьдесят лет нашего знакомства. Был он энергичный, отзывчивый. К сожалению, семейная жизнь у него не сложилась, как следовало. Рая, его жена, красивая брюнетка ладного сложения, добрая, работящая, и оба были чудесные ребята. Вот характерами не сошлись. Как говорится, «нашла коса на камень». Вечно спорили и жаловались друг на друга.
Мы любили их обоих. Эти люди были рядом с нами всю нашу жизнь и были в курсе всех наших событий, хороших и плохих.
Если забежать вперед, то после сорокалетней совместной жизни, когда их дом пошел на капитальный ремонт, они, воспользовавшись этим, разъехались по разным улицам в разные квартиры. Под старость стали строить жизнь сначала, каждый по-своему. Но это уже другая история и другая жизнь.
Саша не оценил Раину красоту и доброту. Рая не могла оценить того хорошего, что можно было выделить из отрицательных качеств своего супруга, и оба не могли приспособиться друг к другу. Оба пытались устроить свою жизнь сначала, но из этого ничего не получилось. Время упущено.
Был у них сын Миша. Пока был маленький, жили вместе, а потом он женился, а родители разошлись. У сына тоже первый брак не получился. Оставив сына от первого брака, он женился вторично, по всей вероятности, удачно.
Саша умер в 1984 году после Давида. Рая после нескольких операций тоже умерла. Я долго не знала об этой утрате, никто не позвонил. Обнаружила на кладбище в их общей могиле надпись рядом с мужем. Хотя спорили, все же оказались вместе в земле и на небе. Его сын ухаживал за могилой. Сын женат. Таким образом, Миша имеет сына от первого брака и дочку от второго.
Глава 18. Дела житейские
После демобилизации Давид Захарович поступил на работу в торговую организацию на административную должность. Зарплата была не очень велика, но мы были молоды, полны надежд, и это нас не очень тревожило.
Давид Захарович был человеком флегматичным, медлительным, но обязательным. Делал все медленно, но верно, как говорится, капитально. В те годы он вел кружки по политграмоте и текущей политике, и партийные дела были на первом месте.
Его отец был старых правил. Ведал делами и не доверял нам, молодым, распоряжаться нашими небольшими средствами по своему усмотрению. Пожалуй, он нас научил бережливости.
Настал день, когда я пошла в декрет по беременности. Взяли мы в кредит кое-какую мебель, не посоветовавшись с родителями. Отношения испортились.
С каким удовольствием я стала освобождать изрядно надоевшие чемоданы, корзины, раскладывая в шкаф белье по полкам, развешивая все на распялки. Настроение испортил отец, бросив на стол наши продуктовые карточки в знак протеста. «Хозяйничайте сами», - сказал он.
Готовить я еще не умела. Помню первое жаркое с пережаренным мясом.
Родители есть родители! Принялись наперебой помогать нам. Мамаша помогала готовить, папаша выкупал продукты, за которые мы тут же расплачивались.
На учебу ходила, хотя уже не работала. Было трудно и не совсем удобно. Стеснялась сильно располневшей фигуры. Готовила придание будущему ребенку и волновалась о том, что меня ждет.
Глава 19. Маруся. 1933 год
Была у меня приятельница – Маруся Мулер. Вместе с ней мы ездили в Лебяжье к своим мужьям, которые были летом в лагерях. Это были замечательные поездки. Впервые я ходила по лесу. Я с удивлением рассматривала его богатства - высокие сосны, ели, дубы, кедры, - ела ягоды и собирала грибы. В Крыму, в Евпатории леса нет.
Особенной дружбы мужья друг к другу не испытывали, но после службы некоторое время общались; жили они близко от нас. Я часто ходила к Марусе. Меня влекло к ней умение вышивать, и я старалась постичь это прекрасное искусство. У нее уже была дочурка Ира, рыженькая, плохо ела: держала подолгу пищу во рту, не желая глотать, чем выводила мать из себя.
Я любила Марусю. Она была старше и умнее меня, было у нее чему поучиться. Маруся относилась ко мне очень доброжелательно.
В дальнейшем у нее появились еще две дочери. Это я узнала после войны, когда мы вновь встретились и побывали у них, но ответного визита не последовало. Дружба не возобновилась. Встречались на улице, подолгу стояли, разговаривая.
Умерла она, когда девочки были уже взрослые. Отец женился на другой. Больше мы с ним не встречались.
Глава 20. Сын. 1934 год
Наступил день появиться на свет сыну. Это было двадцать восьмого января тысяча девятьсот тридцать четвертого года. До больницы было не очень далеко, и мы с мамашей отправились пешком. Больше никого дома не было. Было невыносимо страшно. Родильный дом показался мне неприветливым и неуютным.
Мамаша ушла, и я осталась одна среди незнакомых людей. Рожениц было много, и мне казалось, что мне мало уделяют внимания, и от этого было еще тяжелей. Молча плакала от боли и какой-то обиды.
Не помню, чтобы показали ребенка. Сказали: «№ 2 - мальчик». Со мною еще долго возились: был разрыв. Потом отвезли в палату. Первые дни сына не привозили, а я с нетерпением ждала нашего знакомства. Наконец прикатили коляску с младенцами для кормления. С трепетом следила, как раздавали свертки с новорожденными, и гадала, который мой. Вот шаги сестры направились к моей кровати.
С трепетом рассматривала сына. Из пеленок видна была только головка с густыми черными волосиками, на лобике стояла цифра «два», написанная чернильным карандашом. Ребенок крутил головкой, карие глаза и ротик были широко открыты, - хотел есть. Мальчик явно был похож на меня, как подумалось мне.
Удивительно ловко стал сосать. Это была первая неописуемая радость после всех мук и страхов последних дней. Сладкая радость разливалась по всему моему существу, когда я прижимала к груди живой пакетик. Имя сыну было давно приготовлено – Левочка. Итак, я стала обладательницей маленького человека. Стала мамой. Это было еще не все. Надо было его вырастить, а впереди на нашу долю предстояло много испытаний, страданий и невзгод. Впереди была война.
Глава 20. «Не переступай порога»
Ежедневно получала от мужа передачи и трогательные теплые письма. Он был рад сыну и с нетерпением ждал свидания с ним. Каково же было мое разочарование, когда по выписке из больницы меня встретила свекровь с соседкой, муж же мой был на каком-то совещании, которое «якобы» нельзя было отложить, и без него оно не могло состояться. Это была первая жгучая обида, первая трещина в наших отношениях. В моем мозгу не укладывалось такое поведение. Получилось гадко и обидно до слез. До сих пор вспоминаю с возмущением, хотя сын давно сам отец. Такие поступки не забываются.
Много странностей было в моей половине. Это выявлялось постепенно, ведь говорят: «Чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли». Много я в жизни расстраивалась и из-за его флегматичного, равнодушного, ленивого характера, и из-за того, что молчал, когда я выходила из себя, абсолютно не реагируя, и из-за того, что в молодости не любил помогать дома. Делать было нечего, надо было приспосабливаться друг к другу.
Конечно, я не исключаю и его достоинств: пунктуальности, партийной дисциплины, честности и порядочности. Но в быту семейной жизни это еще не все.
Пришла весна, и я решила поехать на лето к родным в Евпаторию. Сыну было шесть месяцев.
Глава 22. В Евпаторию
Быстро собралась в дорогу. Самый большой и ответственный груз – сын и его снаряжение. Не помню, как вел себя мой маленький путешественник.
На вокзале меня встретила вся семья. Гордости не было границ. Бабушка завладела внучонком.
Обычно с вокзала и на вокзал ходили пешком через степь. Я очень любила эту дорогу, на ней хорошо думалось, мечталось. На этот раз была заказана линейка с парой лошадей, и она быстро нас домчала на Пролетную улицу к нашему дому. Весь двор высыпал встречать нас.
Милая, родная Евпатория, как бы я хотела побывать там теперь! Наверное, я ничего бы не узнала, так все там изменилось.
Родители мои работали. Младшая сестренка Зоя бегала с подругами, ей было десять лет. Лия сдавала экзамены в Симферополе; училась она в медицинском институте, там и жила. Все заботы по уходу за сыном легли на меня.
Когда приходила с работы мама, я мчалась к морю купаться. Купалась очень осторожно, и все же грудь застудила, долго мучилась загрубелостью молочной железы.
Наконец Лия сдала экзамены и приехала домой. Это была потрясающая встреча. Сестра стала взрослой! Мы бросились друг другу в объятия и долго не могли придти в себя, смеясь и плача. Я ведь не была дома три года. За это время из подростка Лия стала красивой девушкой с замечательными волосами, плотной, небольшого роста. Я не могла налюбоваться моей сестренкой и не могла наговориться с ней. Заснули только под утро.
Бетя Мазо вышла замуж за русского парня Пантелея, и у нее тоже родился сын, ровесник моему малышу (Борис Гапонов, сейчас он в Израиле). Когда спадала жара, мы с детьми гуляли у моря. Лето пролетело быстро. Опять расставание с родными, с родиной. Нас ждали в Ленинграде. Проводы, слезы, напутствия…
Обратно я везла сына в жестяном корыте, которое взяла с собой в Ленинград. Три месяца пролетели. Сынишка подрос. От тех времен осталась маленькая любительская фотография. Сын лежит голышом, а бабушка поддерживает его рукой, чтобы не упал. Самой бабушки не видно.
Глава 23. «Маленькие детки – маленькие бедки». 1935 -1936 годы
Приехав из Евпатории, я начала работать счетоводом в Выборгском РАЙПО. После рождения сына учеба осталась позади, надо было работать, так как одной зарплаты нам не хватало. Мамаша была слаба, у нее болели ноги, то и дело открывались на ногах язвы. Я на работу ездила на трамвае до Финляндского вокзала; вечером гуляла с сыном, бабушка делать этого не могла.
Сынишка подрастал, стал бегать, и как только дедушка начинал хлопать в ладоши и подпевать: «Тур-люды-люды», - он тут же пускался в пляс, выделывая ножками замысловатые кренделя, а потом галопом мчался по комнате, заливаясь смехом, от которого и нам становилось смешно и весело.
Работа мне нравилась. Я с удовольствием постигала бухгалтерию. Время на работе шло незаметно, интересно. Я удивлялась, что другие сотрудницы все время поглядывают на часы, торопя время.
Летом тысяча девятьсот тридцать шестого года взяла расчет, снова умчалась в Евпаторию с сыном. Ему было два с половиной года. Он шагал с нами пешком и отсчитывал шаги: «Раз, два, три…» Бабушка с дедушкой вели его за руку и восхищались внуком. Чего не делает любовь? У них мальчиков не было, а тут ВНУК.
На пляж мы ходили вместе с сыном, он тоже загорал и купался. С нами иногда ходила Леля, она приехала на каникулы. Сохранилась фотография, где мы снялись втроем. Гляжу на карточку и завидую тому времени. Как говорится, маленькие детки – маленькие бедки.
Тут мы встретились с моим другом детства Гришей Моняком. Он уже был тоже женат и привез из Москвы дочь к бабушке. Вспоминали былые времена.
Стремительно летит время. Другие пионеры шагают по улицам города с барабанным боем и новыми песнями. С завистью смотрим, вспоминая о своем незабываемом детстве, которое бывает в жизни один раз и то недолго.
Пришла осень, и мы разъехались по домам: он в Москву, я в Ленинград. До будущей встречи. Состоялась встреча в Ленинграде.
Глава 24. Врачом надо родиться! 1937–1938 годы
На этот раз я устроилась вблизи от дома на продовольственную базу для закрытых учреждений в бухгалтерию. Водили Леву с дедом по очереди в садик на Щербаков переулок, ибо с няньками нам положительно не везло; все попадались такие, которых нельзя было держать то по болезни, то непутевые, и мы с ними изрядно натерпелись. Где только дед выискивал таких?
Этот год был для нас очень тяжелый. Лева заболел без видимых причин, стал температурить: утром температура нормальная, вечером, когда я прихожу с работы, - тридцать девять – сорок, и это продолжалось довольно долго. Из поликлиники ходили врачи, пичкали его всякими медикаментами. Мальчик был «воинственный», врачей боялся, и чтобы посмотреть горло, надо было «полк солдат», чтобы его удержать, так он орал и вырывался из рук. Соседи наши рекомендовали частного врача Трелева (даже фамилию запомнила). Приходил он в лисьей шубе, важный, неторопливый. Вешалкой не пользовался, просил стул и укладывал на него свою шубу. Не торопясь усаживался за стол и терпеливо выслушивал и расспрашивал о больном. Потом так же неторопливо подходил к ребенку. Сначала беседовал с ним о посторонних вещах, удивительно спокойно, не торопясь, его выслушивал, осматривал, выстукивал, а мальчишка как завороженный делал все, что ему велели: и дышал, и рот открывал без посторонней помощи. Мы молча наблюдали и поражались его спокойствию. Видимо, все же врачом надо родиться. Этот человек должен быть не от мира сего, чтобы быть выше всех, умнее всех, внушать доверие и веру в себя как взрослым, так и детям.
Прописал он всего лишь 2% хлористый кальций и велел гулять и по возможности скорее отправляться на дачу. Диагноз – бронхоаденит. Был он у нас еще несколько раз.
По наступлению весны сняли дачу в Ольгино, и как только позволила погода, затолкали вещи в грузовик и, посадив бабушку с внуком в кабину, отправились на дачу. (Организационными вопросами ведал Давид Захарович). Ежедневно вдвоем ездили к своему чаду после работы, закупив в городе продукты. Все шло хорошо. Мальчик окреп на воздухе, катался на трехколесном велосипеде, на гамаке, и мы успокоились. Жил он с бабушкой на даче, комнатка была маленькая, но большее время мы проводили на воздухе.
Глава 25. Скарлатина
В самый разгар лета сын преподнес нам еще один неприятный сюрприз, заболел скарлатиной. И откуда она только там взялась?
На станцию несли по очереди на руках, а там был заказан отдельный вагон. В Ленинграде ждала скорая помощь. Отвезли в Мечниковскую больницу, хотя болезнь была в легкой форме. Начались томительные дни ожидания. Передачи, заглядывания в окна. Добираться было далеко. Больница, работа, дом, дача, - все перепуталось.
Не знали, доходят ли передачи до ребенка или застревают где-нибудь. «У матери в глазах всегда ужас» и беспокойство
Время работало на нас. Шесть недель пролетело, и я получила свое детище назад, живого и невредимого. Как говорится, «клин клином вышибают». Бронхоаденит не давал о себе знать.
Благополучно отбыв на очередной нашей даче остаток летних дней, мы перебрались на зимнюю квартиру в город, на Звенигородскую улицу (дом 24, второй этаж) до следующего лета.
Глава 26. Папа. 1937–1938 годы
На следующее лето мы сняли комнату опять в Ольгино. Весной из Евпатории приехал мой папа в отпуск. Какое это было для меня счастье! Я так его давно не видела и очень соскучилась.
Работала я недалеко от дома, но далеко от дачи, и надо было каждый день ездить на дачу. Там был ребенок, и бабушке было очень трудно одной справляться. Папе было, конечно, интересно походить по Ленинграду, а у меня не было времени уделять ему внимание. Вот и выходит, что папа один бродил по достопримечательностям города. Иногда папа приезжал на дачу к внуку, а больше оставался дома с папашей (как я звала свекра). А мне так хотелось походить с ним по Ленинграду, показать все, что я знала и полюбила.
Однажды был сильный дождь. У меня не было с собой пальто, и каково же было мое удивление, когда, выйдя из конторы, увидела папу с пальто в руках. Он его привез с дачи. Я была тронута. Как-то с житейскими заботами забывала сама себя. Муж мой был не очень внимателен и не очень догадлив, ни в молодости, ни позже.
Месяц пролетел быстро, и проводили мы папу домой.
Я уже в это время ждала второго ребенка.
Глава 27. Дочь. 1937 год
Помню, как я на даче ходила, отсчитывая шаги от ворот до крыльца и обратно. Мне надо было ходить перед родами. Я ждала второго ребенка. Муж вечно говорил: «Нито кин койхс». Это значит: «Нет сил». Говорил и дремал на диване и, конечно, не сопровождал меня в моих походах. Я будила его, а мамаша говорила: «Пусть поспит» («Лаз эр шиофн»). «Смотри, - говорила я, - будешь старый, я не поверю тебе в твоей немощи и что у тебя «нет сил», ибо эту фразу я слышала изо дня в день в течение всей нашей жизни». Любил он, грешным делом, поспать, бессонницей не страдал даже в самые тяжелые дни нашего бытия.
Шло время. Наступила зима, и двадцать девятого декабря тысяча девятьсот тридцать седьмого года ночью муж отвел меня в роддом, предварительно почистив ботинки, видимо, от растерянности. Он был так же наивен, как и прежде. Я ждала, и мне сквозь слезы было смешно.
Добрались на трамвае до Кузнечного переулка. Всю жизнь в связи со своей скромностью старалась никого не тревожить, хотя можно было вызвать скорую.
На этот раз все обошлось спокойней. Учреждение было лучше и врачи ласковей. Родилась девочка десяти фунтов, Элочка, очень хорошенькая, с мелкими чертами лица, как у бабушки. Похожа было на Давида Захаровича. Дед пошутил: «Пусть валяется, в хозяйств пригодится» (фраза эта была на еврейском языке).
Опять я залежалась с температурой в изоляторе. Когда выписалась, встретила уже не соседку, а мужа с отцом. Ребенка нес дед, а Давид Захарович вел меня. Приехали на трамвае (пишу об этом, потому что есть вещи, которые врезаются в память).
Сын встретил сестренку очень любопытно, посмотрел, а потом галопом помчался по комнате, радуясь пополнению. Ему было четыре года. Итак, в семье стало двое детей.
Девочку назвали Элеонорой – Эллочкой. В дальнейшем я жалела, что не дала простого еврейского имени, может быть, ее судьба сложилась бы иначе, кто знает?!
P.S. Ребенка вручили отцу, а он передал деду, и этим я тоже возмущалась, а Давид, видите ли, стеснялся, и это до сих пор обидно и стыдно. Жаль, что нельзя начать сначала. Я была бы менее опрометчива и более строга.
Я не знала, как вести себя в таких ситуациях. Наверное, все это ерунда против того, что нас ждало в дальнейшем.
Глава 28. Лето 1938 года
Дочери было полгода, сыну – четыре с половиной. Надо было опять думать о летнем отдыхе. Переезд на дачу! Это был бич, который всю жизнь сопутствовал мне, да и не мне только.
У бабушки болели ноги, и она на дачу не поехала. Сняли две смежные комнаты, и с нами поселились наши друзья, о которых я уже писала, Саша и Рая со своим сынишкой четырех лет, Мишей. Отгородили занавеской проход к выходу, чтобы не мешать друг другу.
Свободного времени у меня совершенно не было. Дети, готовка. Уборка, кормежка, гора посуды. С непривычки одной управляться было трудно. А если критически смотреть на вещи, то видимо, я была не так расторопна, не так собранна и очень суматошна. Мне всегда казалось, что не все сделано, и я вечно находила себе работу. Хотелось, чтобы было сытно, чисто и ухожено, и я не давала себе покоя.
Муж пошел в отпуск, но целый день с партнерами дулся в домино. Тут еще малышка заболела: у нее распухло одно плечико; пришлось везти в город к врачу. Прописали хвойные ванны, и работы прибавилось. Грела на примусе воду и делала хвойные ванночки. Мой муж по-прежнему ежедневно играл в домино. Помощи просить надоело и было неудобно, боялась насмешек его партнеров. Махнула рукой и управлялась сама.
Саша с Раей часто ругались, обзывая друг друга всякими прозвищами. Однажды во время ночной перепалки все рубахи полетели в ночное ведро, Саша еле спас одну от гнева жены и умчался в ней на работу, не успев позавтракать. Было смешно и стыдно.
Часто Лева с Мишей затевали возню из-за велосипеда, поднимали рев, и мне изрядно влетало от возмущенной мамы Раи, и напрасно, ибо дети тут же мирились, как ни в чем не бывало.
Лето прошло в тревогах, заботах, хлопотах. Неспокойный у меня характер в противоположность характеру моего мужа; ему все нипочем. Если бы знать, что еще предстоит испытать, я, наверное, была бы терпеливее и спокойнее по отношению к жизни, очень даже неплохой. Человеку всегда чего-то не хватает.
Глава 29. Антропшино. 1939 год
Летом довелось нам побывать еще на одной даче по Витебской железной дороге, в Антропшино. Я работала, дети были с бабушкой.
Мы с Давидом Захаровичем ежедневно с работы отправлялись на дачу. Место было очень любопытное, на горе. С поезда шли пешком по ровной местности, потом в гору, где был поселок. Место было настолько очаровательное, что мы не замечали долгого пути.
В это время приехал в Ленинград сдавать экзамены Гриша Моняк. Мы пригласили его на дачу. Тут он познакомился с моей семьей. Сам он тоже был женат, имел двоих девочек. Жена была русская. Видимо, он был чем-то не доволен и чего-то не договаривал.
В этом же году приезжал к нам и другой товарищ моего детства, Миша Мазо. Он служил где-то поблизости и приводил к нам девушку, на которой собирался жениться, все спрашивал совета. Разве можно в таком деле дать совет с первого взгляда? Да и какие тут могут быть советы? Я думаю, все хороши, если сам хорош.
P.S. У Гриши всегда в глазах светилась ко мне любовь. С Гришей больше я не встречалась, хотя мы с детства очень симпатизировали друг другу. Судьба есть судьба, от нее не уйдешь.
К сожалению, он очень рано погиб на фронте, и увидеться больше не пришлось с моим лучшим другом детства и юности.
Часть третья. Отпуск. Война. Эвакуация. 1939–1943 годы
Глава 1. Отдельная квартира
У нас было важное событие, о которое стоит написать. Соседи были у нас очень интеллигентные люди. Сергеев был плотный, представительный добродушный мужчина; работал он главным бухгалтером в сберкассе. Его жена, маленькая, невидная женщина с изрытым оспой лицом, не работала, занималась хозяйством и очень трогательно ухаживала за мужем.
Другая семья, Маховиков была большая и довольно беспокойная. Трое детей. Мать проста в общении и тоже не работала. Отец преподавал в институте марксизм-ленинизм, и мне казалось, что они совсем не пара.
Жили мы с соседями дружно. Видя, как нам тяжело в одной комнате (шесть человек, не считая няньки), дали согласие на перестройку квартиры. На работе Д.З. пошли навстречу и помогли рабочими и материалом. Очень быстро нам переоборудовали жилье. Кухню разделили на три части, прорубили в кухню новую дверь, а старую заделали. Получилась отдельная квартира из двух комнат, кухни, черного хода на лестницу. Часть кухни и прихожая остались у соседей. Такая квартира в то время была пределом мечтаний. Мы были безмерно счастливы. Прихожей, правда, не было, и одна комната была полутемная, с фрамугой на кухню, но это нас не тревожило. Стало легче жить, и можно было безболезненно взять няню.
На этот раз попалась славная девушка Клаша. Дети ее любили, она им отвечала тем же, и мне она была симпатична. Я могла спокойно работать. В это время я занималась на курсах бухгалтеров, повышая квалификацию. Учиться было легко, ибо практика сделала свое дело.
Дети, конечно, не всегда были герои. Простужались, иногда болели, как и у всех. Но все же время было неплохо. Бабушка командовала домом, и я была спокойно на работе.
Глава 2. Друзья – приятели
В этот период у нас появились еще одни приятели, с которыми мы дружим по сей день. В молодости вместе работали. Это Цырульниковы, Женя и Леля. Мы часто ходили друг к другу в гости, справляли вместе праздники. В то время у них была одна дочь. Во время эвакуации она погибла. После войны родились еще две.
Леля была младше мужа на двенадцать лет. Разногласия бывали (а у кого их не бывает?). Леля очень проворная, энергичная, чистоплотная не в меру. Много раз меняла квартиры, пока не нашла то, что ей нужно.
Забегу вперед. Дочь с детьми и мужем уехала позднее за границу, в Израиль. Сын живет в кооперативной квартире с женой и сыном. По сей день она неугомонна, везде хочет успеть: и у себя, и у сына. На мужа, как всегда, жалуется. С судьбой уехавшей дочери уже свыклась. Пишут: живут неплохо, если верить письмам.
Глава 3. Евпаторийская бабушка
Тысяча девятьсот тридцать девятый год был насыщен разными событиями. Неожиданно приехала моя мамочка. Она еще не видела внучку. Взяла отпуск за свой счет и нагрянула.
Какое это было счастье, принимать такую желанную гостью!
Ни одной минуты она не сидела без дела. Переделала мне пальто и занялась другими делами, связанными с иглой. Неугомонная моя мамочка!
К сожалению, ее очень быстро вызвали телеграммой обратно на работу: поступил срочный заказ, понадобилась закройщица. Поехала срочно домой, нагруженная всякой снедью; везла с собой и огромный таз для стирки белья и мытья головы.
Проводили ее с сожалением, жаль было снова расставаться. Жила с мамой – не ценила, все куда-то стремилась. Не успела научиться кроить, что очень было нужно в моей жизни, ибо шить я очень любила и люблю.
Глава 4. Воздушная тревога. 1940 год. Финская компания.
Однажды по радио прозвучала сирена. Объявили воздушную тревогу. Все соскочили с мест, но на улицу никого не пускали. Все перепугались за своих детей, хотя утверждали, что это тревога учебная. Тогда мы работали с Лелей в одном учреждении. Последнее время тревоги часто стали оглушать нас. Шла военная подготовка, на работе нам преподавали противохимическую оборону, учили пользоваться противогазами и оказывать первую помощь при отравлении. На душе было неспокойно.
Не зря была вся эта заваруха с военной подготовкой. Вскорости моего мужа мобилизовали в армию. Разразилась война с финнами. Война была не долгой, но жестокой. До нас она не доходила. Д.З. был старшим лейтенантом, работал в военном округе и ночевать приходил домой.
Уже после войны видела своими глазами следы линии Маннергейма и места, где орудовали снайперы.
P.S. Позднее жили на даче на Карельском перешейке у Сони Каминской (двоюродная сестра Давида). Там проходила эта линия. Глыбы камней лежали вдоль и проволока.
Глава 5. Непредвиденная беда. 1940 год
В это время со мною случилось непредвиденное: пришлось лечь в больницу на операцию. Фиброма росла с каждым днем, другого выхода не было. Пережили много волнений, моральных, физических терзаний и болей. Всего не описать. Это было тяжелое событие для меня и для моей семьи.
Пролежала в больнице месяц. Операция была полостная, рана долго не заживала, и настроение было отвратительное. Вернувшись домой, я еще долго ходила на перевязки и чувствовала себя плохо. Было это в тысяча девятьсот сороковом году, мне было двадцать восемь лет. Хорошо, что это случилось до войны.
С благодарностью вспоминаю няню Клашу и мамашу, которые за мной ухаживали, не давали делать тяжелую работу и носить на руках ребенка. Доченька все время просилась на руки.
Время – лучший лекарь. Все в жизни – преходящее. Понемногу стала приходить в себя.
Наступил тысяча девятьсот сорок первый год. Было решено на лето отправиться всей семьей в Евпаторию. Я взяла расчет, а Д.З. – отпуск. Быстро собрались и отправились на юг. Клаша поехала в свою деревню, а родители остались в Ленинграде. К сожалению, больше нам свидеться не пришлось.
Глава 6. Отпуск. 1941 год
Дорога в Евпаторию длилась двое с половиной суток. Настроение было прекрасное, радость распирала грудь. В Москве была стоянка, и мы успели съездить к Грише Моняку; позвонили Мише Мазо, и все мои друзья собрались вместе. Мы познакомились с их женами и детьми. Они жили в Москве. Все вместе нас проводили к вокзалу и посадили на поезд. Это была последняя встреча с ними.
Поезд тронулся, подъезжая все ближе, ближе к морю. Наконец знакомые места: Перекоп, море с его необъятными просторами.
Встретила нас вся семья. Д.З. впервые познакомился с моими сестрами, с моим городом, который, в противоположность Ленинграду, казался игрушечным. Отпуск пролетел, как сон. Купались, загорали и делали все то, что делают отпускники в курортном городке. Перед отъездом мужа мы с сестрами сфотографировались на память. Он должен был уехать на работу, а я с детьми оставалась до осени. Планы и надежды были на полное благополучие.
Глава 7. Предчувствие
Девятнадцатого июня тысяча девятьсот сорок первого года мы провожали мужа в Ленинград. Шли степью. Погода была прекрасная, и ничто не предвещало плохого. Солнце светило, было тихо. Сестры шутили, смеялись, награждая Д.З. тумаками на дорогу. Выглядело это как-то не солидно. Мне почему-то было грустно и неспокойно, комок подступал к горлу. Всеми силами скрывала свое состояние.
Д.З. ничего не замечал, простился со мной очень небрежно, при самом отходе поезда. Что-то недосказал, чего-то не наказала…
Поезд ушел, оставив пустоту на перроне и у меня на душе. Я ушла вперед, чтобы родные не видели моего состояния и моих слез.
Предчувствие меня не обмануло. Через несколько дней, двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года прозвучал по радио голос Молотова, объявляя, что Гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Итак, с мужем мы расстались почти на шесть лет.
Предчувствия меня не обманули. До сих пор в глаза эта беготня Лия и Давида до самого отхода поезда, и это меня возмущало (все-таки, отец семейства, а вел себя, как мальчишка). Осталась досада на сердце по сей день на эту не солидность и чудачества перед самым отбытием поезда, перед разлукой. Поди знай, что разлука продлится шесть неполных лет.
Глава 8. Война. 1941 год
Вначале до меня не дошло все то трагическое и страшное, что сулило это слово – «война». Через несколько дней отголоски войны проявились у нас в Евпатории: по несколько раз в день были тревоги, бомбежки. Срочно рыли щели на пустыре, где мы играли в детстве, и сидели в них с детьми до отбоя тревоги. Я стояла в очереди у военкомата, куда кинулись все жены военнослужащих, добивалась аттестата и подъемных денег на дорогу как жена старшего лейтенанта. Документов у меня не было, но мне поверили и удовлетворили мое ходатайство.
Думали, что все это ненадолго, но война затянулась. Рисковать больше было нельзя, надо было эвакуироваться. Детей вывозили в первую очередь. Родители меня торопили.
Я беспокоилась, что нет от мужа писем: знала, что он явится в военкомат, не дожидаясь повестки. Мой мудрый папа, затемняя окна одеялом, стоя на подоконнике, успокаивал меня и говорил: «Дорогая доченька, не говори плохо; моли Бога, чтобы хуже не было». И он был тысячу раз прав. Такая началась катавасия, что я забыла думать о письмах. На всю жизнь я запомнила эти папины слова и поддерживала ими себя в тяжелую минуту, и на сердце делалось спокойнее.
Ночью по очереди дежурили на улице. Лия была в Симферополе, Зоя дежурила по очереди со мной. К сожалению, у нас с ней отношения не сложились. Чем-то все она была недовольна и дулась на меня. Это меня расстраивало, я не видела причины такого отношения. Потом я поняла, что, видимо, она ревновала родителей к внукам – ее племянникам. Раньше все заботы были о ней, младше в доме, а теперь все заботы и тревоги обратились к детям.
Нас собирали в дорогу. Приехала Лия сделала мне незаслуженное замечание по поводу Зои. Мне нечего было отвечать, было обидно до слез. Отношения были не выяснены, каковыми остаются и по сей день, ибо, уехав, больше я их не видела. Все погибли во время войны. Их расстреляли вместе со всеми евреями. Тайна, покрытая мраком неизвестности до сих пор.
Тяжело мне вспоминать об этом. Бедные мои сестрички и родители. Так все нелепо вышло. Думали, отправят нас, себе развяжут руки, ведь все взрослые. Вышло все наоборот. Все погибли от рук палачей фашистов с помощью наших предателей, я уверена в этом. Мало ли антисемитов?
Впрочем, я все время забегаю вперед.
 Родители Этя и Самуил Эпштейн. Погибли в Евпатории в 1942, расстреляны фашистами на Красной горке.
Родители Этя и Самуил Эпштейн. Погибли в Евпатории в 1942, расстреляны фашистами на Красной горке.
Глава 9. Эвакуация. Харьков
Вся зимняя одежда осталась в Ленинграде. Кое-как нас родные снабдили зимними вещами и постелью. Наряды, в которых мы приехали на курорт, поместили в заплечные мешки – на черный день. Должна была с нами ехать моя младшая сестра Зоя, но в последнюю минуту раздумала и осталась с родителями, что было роковой ошибкой для нее (дурацкая принципиальность). Родители не решились трогаться с насиженного места. Лия досрочно заканчивала медицинский институт в Симферополе, и они остались ее ждать. Кто же знал, чем это все кончится!
Наступил день отъезда. Мы в поезде. Мама рыдает на перроне. Папа бежит за вагоном. В последнюю минуту он вручил мне мелочь на счастье. Эту мелочь я зашила в мешочек и носила на шее, как талисман. В такое опасное время делаешься суеверной.
Итак, в путь, в неведомое. Я, не приспособленная к дорожной жизни, осталась с детьми трех и шести лет, без близких среди эвакуированных; как говориться, между небом и землей. После войны прошло уже тридцать шесть лет, но того, что я испытала в то время, не забыть никогда.
В дороге нас без конца высаживали из вагонов, и я таскалась с детьми и узлами. Как только я выдержала, трудно сейчас представить. Просто у человека есть какие-то дополнительные резервы, как говорится, глаза страшатся, руки делают. В тысяча девятьсот сороковом году я перенесла полостную операцию, и мне нельзя было носить тяжести. Кто об этом думал в то страшное время, когда ежечасно ждали бомбежку.
С большими трудностями добрались до Керчи. День сидели на берегу. Удалось накормить детей горячими щами в столовой. К вечеру погрузились на баржи и всю ночь плыли по Азовскому морю. Несмотря на то, что море это мелкое, нас очень качало. Дети плохо переносили качку, а дочь была совсем замучена тошнотой и рвотой.
К утру причалили к противоположному берегу, сложили вещи на подводы и долго шли пешком. Дочь на руках, сын следом за нами. Ночевали на улице, грызли сухари. Утром погрузились.
Нас привезли в Краснодарский край на станцию Роговскую. От станции несколько километров пешего пути до станицы.
Прежде, чем попасть в Краснодарский край, высадились в городе Харькове у какого-то здания и вокруг него сидели на узлах и ждали дальнейшего отправления. Дальше двигаться было нельзя. Все было занято фашистами, всюду хозяйничали немцы. Харьков гудел, все было на колесах. Есть было нечего.
Не помню, как попали обратно в поезд, знаю, что пошел поезд в обратном направлении – на Краснодарский край.
Легко теперь писать, и все равно, не описать тех переживаний и страхов, тех трудов без помощи и поддержки. Без конца таскала вещи и детей и думала, как накормить их. Пережито много, не меньше, чем блокадниками. Они в почете, а нас, эвакуированных, не вспоминают.
Глава 10. Станица Роговская (Кубань)
Станица Роговская… Большая широкая длинная улица, по бокам – деревянные дома, встречаются и каменные постройки: магазин, школа, почта рынок и другие. Все это было как-то далеко друг от друга.
Шли мы долго, пока не добрались до каменного дома с одной большой комнатой без мебели, по-видимому, бывшей школы. Разместились на полу. Было четыре семьи, все из Евпатории. Печки не было. С дровами не Кубани плохо, топят кураем, стеблями от подсолнуха и кукурузы. Готовили на костре незамысловатую еду, кипятили чай. Спали на полу, каждая семья в своем уголке: мать с четырьмя детьми – Шапиро, беременная Эля с дочкой и мамой - Левитины, Маркушевичи из нашего евпаторского двора – мать, отец и сын Мишка. Миша был еще молод для армии, но спустя три года пошел воевать и не вернулся, умер в госпитале. Эта семья приехала позже и привезла для нас перинку, которую мама со слезами упросила взять для нас. Это было как нельзя кстати. Элочка совсем расхворалась.
Эвакуированные работали в колхозе, помогали убирать хлеб, а я отлучаться от детей не могла. Девочка была больна, и это усугубляло мое положение. Температура и боль в ротике и горле не давали ей кушать. Стоматит.
С большими трудностями выпросила в колхозе продел гречи, но молотая крупа была с шелухой и никак не отделялась. Варила кашу на костре с шелухой и так и кормила. Ела Элочка плохо.
Врача в станице не было, врачи были от нас далеко. Выпросила в колхозе, чтобы дали возможность отвезти дочь к врачу. Когда приехали, к большому огорчению, врача на месте не оказалось. Целый день просидела с ребенком на руках, ожидая его с часа на час. Увы и ах, врач не появился. К вечеру вернулись обратно ни с чем. Неразбериха была полная.
Жили, мучались, сами лечились, как могли. Не очень-то нас, эвакуированных, жаловали, но все же продали мед и молоко, чем я и выхаживала детей.
Подошла осень. Надо было сына отправлять в школу в первый класс. Это был совсем не праздничный день. Завела его в класс, где собрались дети, учительница, родители. На фронте было тревожно, и у всех в глазах страх, ужас и неверие в школьные успехи. Родители тихо расходились, оставляя своих первоклашек с неспокойной душой. Обратно сын прибежал сам, как ни странно, с хорошим настроением. Дети есть дети.
Учиться долго не пришлось. Надвигалась зима, надо было думать о более теплом убежище. Девочка была слабенькая, врачебной помощи не было. Сын крепился, терпел все неудобства, мужчина все же.
Искали более теплое жилье.
…Тяжело перечитывать все эти воспоминания. Очень жаль, что кроме мня никто это больше читать не будет. Моей семье не интересно. Внучка невестки этого не перенесла, родившись после войны. Дочь моя умерла, у сына воспоминания стираются из памяти. Наверное, сожгут мои записи после меня. Мне уже восемьдесят три года.
 Листок из той самой тетрадки
Листок из той самой тетрадки
Глава 10. Новое убежище. 1941 год
Познакомилась я с женщиной, у которой муж воевал. Жила она с двумя детьми тоже трудно. У нее был домик с земляным полом и русской печью. Приютила она нас у себя на зиму. Ежедневно оставляя детей, мы с ней отправлялись в поле за топливом. Я выбивалась из сил, таская на себе стебли от кукурузы и подсолнечника. Печь брала много. Было сыро и холодно. Ходила с мокрыми ногами и как не простужалась, один Бог знает.
Дети были в тепле, и это было главное. Варила мучную похлебку. Молоко тоже ежедневно покупала у соседки – обменяла на детскую кофту.
Наконец, наладила связь с мужем. Родители переслали мне его письма. Потом связь с родителями оборвалась. В Крым ворвались фашисты, и обо всем том, что они там творили и о печальной судьбе родных я узнала позже из письма уцелевшей соседки караимской национальности.
Враг двигался вперед. Угроза нарастала с каждым днем. Ростов был в опасности, а это рядом с Кубанью. Надо было нам бежать дальше от этих мест. Боже, сколько было волнений, слез и тревог!
Глава 12. Снова в путь
Когда немцы оккупировали Ростов, эвакуированные заволновались, тем более что местные учреждения стали эвакуироваться.
Стали и мы собираться. Дочь все болела, но оставаться было страшно, Ростов совсем рядом. Немцы зверствовали.
Поехала в районный центр получать на руки аттестат. Дети остались одни. Я там задержалась на целые сутки. То одного нет, то другого. Все в панике. Все готовятся уезжать, военкомат тоже.
С трудом добралась домой на попутной таратайке. Детей застала в слезах, так они волновались. Надо было срочно собираться, иначе нас уничтожили бы сами кубанцы, они евреев не любили. Так случилось с нашей соседкой Левитиной. В последнюю минуту перед отбытием начались роды, и вся семья, мать, дочь и двое детей, остались в оккупации у немцев. Их постигла та же участь, что и всех евреев, которые не успели уехать.
Собрала снова все пожитки, в вещевой мешок уложила все лучшее, на что можно было рассчитывать в случае нужды. Мешок получился тяжелый, но раздумывать было некогда. Враг был у порога, а подводы наготове.
Погрузились, поехали. Чайник с молоком свято берегла, чтобы поить больного ребенка.
Глава 13. Ад кромешный
Подводы тарахтели по неровной дороге. Дети плакали от страха, было темно и холодно.
Сгрузились на перроне. На плечах – мешок, на руках – дочь, на узлах – сын и чайник с молоком в придачу. Заплечный мешок не по силам, он меня перетягивал. Решила его снять, понадеялась на соседа Маркушевича. Пообещал вместе со своими и мои погрузить.
Подошел поезд. Стоял пять минут в полной темноте. Ничего не видно, ночь.
Что тут началось!
Слезы, крики, вопли. Все бросились к вагонам, отталкивая друг друга. Вещи перекидывались через головы. Все застревало в проходах.
Волной втолкнуло и меня с детьми. Молоко опрокинулось, от чего получилась лужа, и меня ругали. Вещи сосед затащил в вагон, и все было в куче. В толкотне соскочила у дочки с ножки галоша, и я ее не могла найти. До самого Краснодара я не знала о судьбе вещей. Самое главное. Меня беспокоил заплечный мешок.
Всю ночь не смыкали глаз, ибо сидели и стояли, как сельди в бочке.
Ад кромешный! Содом и Гоморра.
Глава 14. Краснодар. Пропажа. Ожидание
Усталые, голодные выгрузились в Краснодаре, чтобы ждать следующей пересадки. Стали разбирать вещи. Заплечного мешка, сколько не искала, не нашла. Слезы, вопли не помогли. Как в воду канул.
Не думаю, чтобы он остался на перроне. Скорее всего, его прибрала моя хозяйка, которая прибежала на вокзал якобы помочь. Это был удар. Сердце изболело: за то, что в простоте своей разбирала при ней вещи; за то, что я, такая растяпа, не смогла уберечь мешок и осталась с детьми совершенно раздетая. За то, что так плохо уложила вещи: все хорошее в один пакет вместо того, чтобы распределить их поровну и надеть на себя все лучшее.
После драки кулаками не машут. Плачь – не плачь, не поможет.
Осталась постель, а в ней пуд ржаной муки, приобретенной в станице на всякий пожарный случай, и чемодан с ношеной - переношенной сменой белья. Было обидно до слез. Даже сейчас, много лет спустя, когда пишу эти строки, от воспоминаний гложет обида.
Остались еще на руке часы, с которыми я не расставалась ни ночью, ни днем все пять военных лет. Может быть, наше положение будет еще хуже, - думала я, - тогда уж придется сменять их на муку.
Я просила Бога, чтобы хуже не было (как говаривал мой папа).
Попали мы в многоэтажную большую школу, забитую до отказа человеческими телами. Здание очень хорошее, но во что оно превратилось после нашествия этого муравейника, трудно представить. Люди спали вповалку на полу в классах, коридорах, на лестницах. Двор был сплошь загажен человеческими испражнениями, Туалетов не хватало, и никто не убирал. Ступить было некуда.
Дети мучались вместе со взрослыми. От грязи и вони начали заедать вши.
Ели всухомятку (сухари). В столовую было не попасть, Желающих было много, а столовая одна.
Я все продолжала разыскивать свой пропавший узел, всех обходила, опрашивала, не попал ли случайно в другие вещи мой мешок. Была на станции, спрашивала начальника, но ищи ветра в поле! Никто не приносил, никто не признавался. Бесполезно было искать.
Тем временем повстречала Бетю Мазо (евпаторскую подругу). Она была с семьей: двое детей и родители. Мне стало больно за своих родных. Не смогла я уговорить их поехать м нами. Папа говорил: Главная его забота отправить меня с детьми. «Взрослые как-нибудь выберутся!»
Все оказалось трагичнее. Они просто не успели уехать из Крыма и застряли в Симферополе. В Краснодаре скопилось очень много эвакуированных. Люди, узлы, чемоданы… Кругом грязь. Поезда все подвозили и подвозили новые партии эвакуированных. Все лихорадочно ожидали своей очереди на отправление дальше в тыл. Враг был в Ростове. Это совсем рядом.
По городу ходили мало, и я его не запомнила.
Глава 15. Поехали. Декабрь. 1941 год.
Тбилиси
После долгих ожиданий и терзаний в Краснодаре нас наконец отправили дальше в неизвестном направлении. Был декабрь тысяча девятьсот сорок первого года.
Погрузили всех в товарные вагоны, ни нар, ни соломы. Устроились, как кто мог: кто на вещах, а кто и просто на полу.
Разные тут были люди, старики и молодые женщины с детьми. В основном старались помочь друг другу. Особенно запомнилась молодая женщина с ребенком. Ребенок был недоразвитый, он хныкал тонким голоском, протягивал ручки и таращил бессмысленные глазки. Соседка по дому ехала с ней и помогала по мере сил. У нее тоже было двое детей, школьного и дошкольного возраста.
Больной ребенок ни сидел, ни говорил. Он был закутан в одеяльце. Мать тщательно оберегала его от посторонних глаз.
Трудно было определить возраст ребенка. Никто этого не пытался делать, просто старались не выдавать своих эмоций. Это было материнское горе. Будучи уже на месте, где довелось пережидать это страшное время, через шесть месяцев этот ребенок умер, освободив мать от бессмысленного своего существования, и несмотря на неполноценность ребенка, мать рыдала и все повторяла: «Мир фар дир!» («Мне за тебя!»)
Но это потом. А пока мы грелись у маленькой железной печурки, стоявшей в центре вагона. На ней же в эмалированной кружке я варила для дочки манную кашку на воде из крупы, которую мне дала мать больного ребенка.
Девочка опять сильно расхворалась. Температура не падала. Врачей не было и никаких лекарств.
Восемнадцать суток мы прожили в этом товарном вагоне. Поезд двигался медленно, с остановками и внезапными отъездами. Однажды спустилась на какой-то станции в надежде достать что-нибудь съестное, а поезд вдруг тронулся и поехал. Трудно сейчас представить, как я мчалась за поездом и где нашла силы вцепиться в последний вагон далеко за платформой. Так высоко было, что, пока забиралась на ступеньку вагона, исцарапала ноги и разбила колени. Хорошо, что меня подхватили люди и помогли забраться. В последний вагон.
Дети остались в переднем вагоне, и пока поезд не остановился, я не могла попасть в свой вагон. Когда наконец я добралась к детям, они кричали и плакали не своими голосами, и я вместе с ними.
Надо отдать должное: сын стойко переносил все трудности пути. В большой ватной тужурке с бабушкиного плеча он был похож на «мужичка с ноготок». Вел он себя, как старший брат: успокаивал сестренку в пиковых ситуациях.
Наконец, стало ясно, где мы находимся.
В Тбилиси поезд загнали в тупик на неизвестное время. Оставив детей на попутчиков, я бросилась искать медиков. Меня успокоили, сказав, что мы у цели и через несколько часов приедем на место, где есть врачи и больница. Вернувшись назад к поезду, я его не нашла. За время моего отсутствия поезд перегнали на другой путь.
Изрядно переволновавшись, я с трудом нашла свой вагон. Доченька была совсем слаба, лежала, не двигалась, хотя лобик был холодный. На сердце было неспокойно. Я с нетерпением ждала конца изнурительного пути.
На следующий день пришел конец этому кошмарному путешествию. Грузинская ССР. Кахетия. Станция Велистиха.
Это было теплое место на земном шаре, и это было нашим спасением.
Глава 16. Грузия
То, что я увидела, трудно описать. Куда не повернешься, всюду горы со снежными вершинами, а на склонах зеленая растительность. Светило яркое солнце.
Грузины встретили приезжих довольно приветливо, развезли по комнатам, уплотнились сами, где только было возможно.
Село было как бы в котле, защищенное со всех сторон горами. Был декабрь месяц, а тут – ясное небо, солнечная погода, тепло. Ощущение потрясающее. Всюду слышалась грузинская речь и ломаный русский. Природа была очаровательна, хотелось неустанно любоваться ею, но до нее ли мне было! У меня на руках был больной ребенок.
Глава 17. Больница
Дочь поместили в больницу, и я находилась при ней. Сын остался с соседями по поезду, Шапиро; с ними мы вначале жили в Роговской. Обстоятельства заставили нас поселиться вместе с ними в одной комнате, что намного осложнило мою дальнейшую жизнь. У них была большая семья (пять человек) и никаких средств к существованию. У меня был аттестат на пятьсот рублей по тогдашним деньгам, иногда семьям военнослужащих кое-что давали в военторге. Делясь с ними, я обделяла своих детей. Иначе было невозможно.
В больнице лежал и сын Бети, и она была при нем. У мальчика была скарлатина. Палаты были рядом, но мы не общались во избежание переноса инфекции. У моей Элочки было воспаление легких.
Месяц мы пробыли в больнице. Я заучила несколько слов, чтобы объясняться с местными жителями. Надо было добывать яички и другие продукты, чтобы поднять девочку на ноги. Ходила по селам и просила продать мне яички (кверцхи), кефир (мацони), сыр (квели), хлеб (пури), деньги (пули). Вот еще несколько слов: мадлопт (спасибо), ткива (больна)… Мальчишки заставляли сына повторять их поговорку: «Бакали цхальши кикинепе» ( в переводе: «Лягушки в воде квакают»). Сын прибегал в больницу каждый раз с новыми словами.
У Бети Мазо мальчик вскорости умер, и его похоронили в грузинской земле. Мне кое-как подняли девочку, но осталось осложнение на сердце. Я не знала тогда, чем это грозило и какие страдания придется перенести ей, мне и моей семье.
По выходу из больницы я обнаружила, что мука, которую я везла в постели с такими трудностями, соседями съедена. Они очень нуждались. Мать извинялась, но то этого легче не стало. Делать было нечего. Надо было начинать приспосабливаться к жизни.
Дочь из больницы я принесла на руках, она не ходила, была очень слаба. Комната была неуютная, и кроме топчанов ничего в ней не было. Ночью на топчанах спали, днем – ели. Посреди комнаты приспособили жестяную печурку. Дверь из комнаты открывалась прямо на улицу, и все тепло быстро улетучивалось.
С дровами было трудно. Я ходила собирать щепки, ветки, где только было можно и где что плохо лежало и плохо держалось на виноградниках и заборах.
Глава 18. Село Велистиха
Природа в Грузии изумительная. Земля очень плодородная. У всех виноградники, сады, где растут айва, абрикосы, сливы, яблоки (вашли). Грузины работают и в колхозе, где кроме винограда выращивают кукурузу (лобио бахчу) и другие культуры.
В селе русский знали плохо, и все же мы понимали друг друга. Вначале, когда мы только приехали, все наперебой угощали нас вином и национальными сладостями (чурчхелой, сушеным виноградом, айвой и так далее). Вино пили стаканами и обязательно до дна. Пили по очереди из одного стакана, он обходил весь круг присутствующих. Каждый произносил тост. Приходилось избегать приглашений, ибо заставляли осушать стаканы, и не один раз.
Вино у них хранится в марани, кувшины вкопаны в землю на уровне пола. Такое впечатление, что действительно, как поется в песне, «воды меньше, чем вина».
За водой я ходила, как все, с хозяйским кувшином... Ведер нет. Течет вода тоненькой струйкой и осень медленно. Кран не закрывается, всегда очередь. Пока кувшин наполняется, проходит много времени. Ночью вода течет в лохань, приспособленную под краном для скота. То и дело подходят коровы, лошади и пьют скопившуюся за ночь воду. Ни одна капля воды не пропадает. Жители очень бережно обращаются с водой. Воды мало. Она течет с гор.
Глава 19. Пури
Еще мне хочется рассказать, как грузины пекут хлеб.
В каждом хозяйском дворе стоит что-то наподобие бочки, изнутри выложенной кирпичом. Кирпич накаляют дровами. Когда огонь выгорает, на горячую кирпичную стенку изнутри бросают тесто, оно прилипает и запекается. Вынимают из этой печки удлиненные лепешки под названием пури (хлеб). Выпекают таким же образом и кукурузные лепешки под названием чада.
Когда начинали «колдовать» над этой бочкой, ребята заранее предвкушали удовольствие от угощения свежей длинной лепешкой, полученной прямо из печки. Старались есть ее помедленнее, чтобы растянуть удовольствие.
Когда мы приехали, на рынке было все доступно и сравнительно не дорого, но это было недолго. Скоро цены повысились, и все стало дорого и недоступно. Деньги, привезенные с собой, кончились, менять на продукты было нечего, и начались, как говорится, черные дни. Остался у нас аттестат на пятьсот рублей, но кукурузная мука стоила на рынке триста рублей. Из нее мы варили жидкую мамалыгу. У соседей и этого не было, приходилось варить на всех, а их было пятеро и нас трое. Не так-то легко смотреть на голодные детские глаза.
Глава 20. На чайные плантации
Из Абхазии прибыли вербовщики и стали вербовать эвакуированных на чайные плантации. Уговаривали, уверяя, что завербовавшиеся будут хорошо зарабатывать и получать рабочий паек.
Добрая половина согласилась переехать в Абхазию, в том числе и мои соседи Шапиро с детьми, Бетя Мазо с семьей. Ее мне было жаль. Мы часто общались, хотя жили на разных улицах. В тяжелую минуту нашей жизни на чужбине было с кем поговорить. Ведь мы с ней были из одного города, который был оккупирован немцами, а мы там родились, там остались мои родители.
Сборы были недолгими. Через два дня все уехали. Я с детьми осталась на месте. Было жаль мучить детей новыми переездами. Все на что-то надеялась. Решила, что без соседей как-нибудь перебьюсь. Меньше ртов.
Глава 21. Трудности
Итак, мы остались в селе. На моей орбите было две семьи военнослужащих, женщины общительные, было у них трое детей. До войны обе работали педагогами. Поселились они вместе. Интересы наши совпадали, была, как говорят, отдушина.
Вместе мы каждый месяц отправлялись в Гурджани за деньгами по аттестату и в военторг. Каждый месяц что-нибудь нам выделяли: полкило постного масла, или пол килограмма «подушечек» для чая, или кусок мыла. Однажды получила килограмм халвы, и был праздник. Как мы ее ни растягивали, кушая по кусочку к чаю, все же она кончилась.
Ходу было в Гурджан восемь километров. Приходилось оставлять детей одних, и это было хуже всего. Пешком туда и обратно шестнадцать километров ходить тоже было не сладко. Пока я имела соседей, дети оставались с ними, а я уходила в колхоз работать за счет будущих трудодней, за которые так никто ничего и не получил.
С дровами тоже были трудности. Я их добывала разными способами: тайком выдергивала из забора или собирала палки на виноградниках. Лес был очень далеко, два часа ходу туда и обратно.
Приносила вязанку, которую тут же сжигали, пока варила в чайнике суп-затирку. Чайник нас выручал все пять лет; в нем и обед, в нем и кипяток. Другой посуды достать было невозможно.
Старались топить попозднее, чтобы было теплее спать. Утром вставать было очень трудно, зубы стучали от холода. Дверь из комнаты открывалась прямо на улицу, и нагреть помещение было невозможно, все сразу выветривалось. Зима в Грузии сравнительно теплая, но сырость и грязь одолевали и пронизывали до костей.
Запомнилось именно это время года, и я не помню, чтобы страдала от жары, хотя Грузия и теплая страна.
Глава 15. День и ночь – сутки прочь
Зимой дни были однообразны. По утрам – за хлебным пайком, потом на почту.
Пока привезут и разберут почту, люди ждали, затаив дыхание. Наконец, выкрикивали фамилии.
Это было лотерея. Иногда получали по два письма-треугольника, иногда ничего. Во втором случае уходили, «не солоно хлебавши», и настроение было плохое целый день, особенно если кто-нибудь получал плохое известие.
Письма от мужа получала. Прилагаю в конце дневника нашу переписку и Додины стихи.
Писали мы на газетной бумаге. Чистой бумаги найти было невозможно.
Потом я отправлялась на заготовку дров, убирала жилище, подстирывала свое ветхое бельишко, стояла в очереди за водой. Надо было быть изобретательной, чтобы умудряться кормить детей.
По вечерам, когда делать было нечего из-за плохого освещения (ночник светил плохо и надо было экономить керосин), Лева пел песни, русские и грузинские, а мы с Элочкой слушали и подпевали. Слух у сына в детстве был отличный, что слышал, тут же сразу запоминал накрепко. Если бы не война, его судьба сложилась бы, наверное, по-другому, а так, что ни год – новая школа с самодеятельными учителями из эвакуированных. В Грузии русских школ не было. После войны в музыкальную школу не попал, да и время было упущено. Очень часто слышу упрек, но что можно было сделать в то грозное голодное время.
Время шло. Как говорится, день и ночь - сутки прочь.
Посещали один раз в месяц Гурджани. Меня поражала природа. Высоко в горах горели электрические огни города Телави.
Сказочная страна Кахетия!
Любоваться времени и настроения не было. Дома ждали голодные дети. На этот поход уходил целый день.
Как только я подходила к селу, две маленькие фигурки встречали меня. К горлу подступали слезы. Целый день ждали, а потом, взявшись за руки, шли встречать.
Глава 23. Лето в Велистихе
Пришла весна. Зацвели такие розы, что нельзя было отвести глаз.
Собирала крапиву, лебеду; отваривала, заправляла постным маслом с луком, и это было большое подспорье в питании.
Грузины жили хорошо. У каждого свой сад, и большую часть времени они занимались собственными садами. Когда ходили в колхозные сады, не понятно! Однако все числились «колхозниками». Я всегда видела на колхозных угодьях пожилых и старых женщин и часто с ними трудилась. В результате, как колхознице, мне отказали в хлебе, который получала в магазине, и никакие доказательства местным властям, что колхоз не обеспечивает хлебом, не помогали.
После слез и беготни колхоз отвесил мне два килограмма пшеницы. Толкла ее на камне и варила кашу. До самой осени хлеба не видели. Положение было весьма щекотливое, надо было из колхоза выбираться, не дожидаясь трудодней и зимы.
Выручили травы (лебеда, крапива), а к осени поспел виноград, и я пошла в сады частников помогать собирать урожай (они кормили).
Глава 24. В поденщицы
Больше работать в колхозе я не стала. Пошла в сад нашего хозяина, у которого мы жили, на уборку винограда. Срезали ножницами гроздья и полные ведра несли к большим корзинам, стоявшим в начале участка. Это надо было делать быстро, и хозяин нанимал помощников.
Днем на траве расстилалась «скатерть-самобранка», и на ней появлялась еда. Это было замечательно. Обедали, отдыхали, потом до вечера резали и носили ведрами виноград. Все это хозяин увозил в свою «марань», сваливал в подземные кувшины, где все превращалось в вино.
Вечером возвращалась усталая, но довольная, неся домой ведро винограда и сто рублей денег (по-нынешнему – десять рублей).
Сезон этот длился не долго, и я старалась не упускать время. Дети оставались дома под присмотром хозяйской невестки Элико с ее мальчишками, Бизиной и Коко. Сорванцы были ужасные, и Лева с ними вечно дрался. Очень задиристые были ребята. Интересно, что из них получилось? Наверное, вышли в люди. В Грузии деньги – это все. С деньгами всего добьешься, и должности, и института, и бронь, и чего душе угодно. Без корысти, ради сочувствия никто не пойдет тебе навстречу. Что-то нужно взамен одолжения.
Жили в селе зажиточно. В колхозе работали «для близира». У каждого свой сад, у каждого на столе и хлеб, и сыр, и лобио, и мясо, и вино, и разные лакомства.
В сезон уборки винограда дети были сыты, но сезон кончился, и надо было думать и искать выход. Без хлеба долго не протянешь, а покупать муку было не на что. Мне посоветовали перебраться в город Гурджани в совхоз Самтреста. Совхоз этот производил вино.
Глава 25. Город Гурджани. 1943 год
Попрощались с хозяевами и освободили им комнату.
Уехали мы из Велистихи в дождливый день. С трудом нашли попутную телегу, которая согласилась нас перевезти в город Гурджани.
Несмотря на сырую погоду, экзотика окружающей природы покоряла: кругом горы, склоны зеленые, а не вершинах белеет снег. Смотри и восхищайся! Как часто мы не ценим красоту, когда мы рядом с ней.
Мне было н до красоты. Впереди опять неизвестность, сердце ноет. Мы бездомные и впереди ничего определенного.
Сгрузили вещи далеко от совхоза, телега поехала дальше. Перетаскивали все на себе. Обещанное жилье было еще занято.
Долго сидели на узлах, пока одна эвакуированная еврейская многодетная семья не приютила нас, хотя им самим было тесно. Долго там оставаться было нельзя – не могла стеснять людей. Пошла к директору совхоза. Он оказался человеком отзывчивым, принял меня на работу, и через несколько дней мы перебрались в сарайчик без окон с земляным полом и одним топчаном на троих. Было тесно и неудобно, но зато свой уголок и никому ничем не обязана.
Сразу получила карточки на хлеб (по триста граммов) и пошла работать на виноградники, расположенные на горе. В обеденный перерыв выкупала хлеб, получала в столовой одну порцию супа, которую и съедали втроем. Было голодно, но лучше, чем в селе. Надежнее!
Глава 26. Виноградники. Предел возможного. 1943 год
Теперь о своей работе в совхозе.
Рано утром с бригадой грузинских женщин поднималась в гору на расположенные там виноградники. Женщины шли по рядам, взрыхляя под виноградными лозами землю, это называлось «тохать». Каждая женщина становилась у своего ряда, и все одновременно начинали работу.
Все зависело от инструмента. Если тоха острая и с древка не слетает, то работа шла хорошо. Мне досталась неисправная тоха, та, которая была свободна, и я не успевала за грузинскими женщинами, привыкшими к своей работе. Тоха все время слетала с древка, и пока я водворяла ее на место, забивая камнем, женщины уходили вперед. Они работали играючи, совсем не уставая.
Очень скоро на моих ладонях образовались водяные мозоли, которые лопались, причиняя боль, и еще больше осложняли и без того трудную работу. Когда я заканчивала свою полоску, женщины отдыхали, дожидаясь отставших. Как только я разгибала спину, все вскакивали и начинали обратный путь по следующим рядам. Я, не успев отдохнуть, продолжала работу, чтобы не отстать от других. Было невыносимо трудно. Ведь говорят: «Хуже всего ждать и догонять».
На обед спускалась последняя, чувствовала себя, как выжатый лимон. Хватала котелок и бежала в столовую в очередь за супом. После обеда – опять в гору.
От усталости и непривычки не могла заснуть. Руки, ноги болели.
Глава 27. Последовательные операции. 1943 год
Наконец закончили обрабатывать кусты тохами. Это за лето проделывали дважды. Следующая работа была значительно легче: подвязка кустов к проволоке, тянувшейся вдоль рядов. Во время работы грузинки пели свои очаровательные песни, певучие, ласковые, протяжные.
Когда начинал зацветать виноград, его обрызгивали химикатами, чтобы не заводились вредители. На спину надевали баллон с жидкостью. Я шла по рядам и обрызгивала кусты. Это было даже интересно, хотя работа была грязная и вредная. Как ни старайся, все равно брызги попадали на человека. Работали в противогазах.
Глава 28. Сбор урожая. 1943 год
Вот и сентябрь пришел! На ветках созрел виноград, янтарный, сочный. Виноградные гроздья клонились к земле, они впитали в себя соки земли, тепло солнца и терпеливый заботливый уход женщин, в котором был и мой труд.
Готовились к сбору урожая: мыли, чистили кувшины, бочки, соковыжималки, и в один прекрасный солнечный день, вооружившись ведрами и ножницами, женщины пошли по рядам срезать виноград. Наполненные ведра с ягодами сваливали в кузов машины и везли в совхоз, заполняли кувшины, врытые в землю, или вываливали виноград прямо в машину, которая сразу выжимает сок. Весь урожай шел на вино, даже обидно было, что ничего не оставляют.
Много раз в течение года вино перекачивают из бочки в бочку, из кувшина в кувшин, пока оно не делается совсем прозрачным, чистым. Стоят эти огромные бочки рядами в большом помещении, в «морани». На каждой бочке – табличка: год рождения вина. В морани вино выдерживают годами. Чем дольше стоит вино, тем лучше оно делается.
В этом большом помещении работали и русские женщины. Жили они с семьями в совхозе постоянно. Мужчины у всех были на фронте.
За рабочую смену женщины так «надегустируются» запахом и пробами, что еле домой доползают. Посторонним вход в морань был запрещен, но однажды мне удалось проникнуть внутрь и посмотреть, над чем «колдуют» женщины.
Чистота там идеальная. Весь сентябрь везли на машинах виноград, белый, черный. Ягоды не успевали перерабатывать, и машины стояли в очереди. Из отжимов выпаривали водку тут же в совхозе на специальных установках.
В сентябре дети и взрослые ели виноград по целым дням, пока шел поток машин на переработку. Потом все превращалось в вино.
Глава 29. Не повезло. 1943 год
Что значит, не везет, и как с невезением бороться?
В самый разгар сбора урожая пристала ко мне хвороба. В подмышечной впадине стали образовываться нарывы один за другим. В народе это называется «сучье вымя». Пришлось вместо виноградников бегать в больницу на перевязки. Самое неприятное, что мне запретили работать в саду.
Пока я болела, прошел сентябрь и вместе с ним виноград. Уборка винограда закончилась без меня.
Пока двор был заполнен машинами с ягодами, мы имели возможность, став на колесо, набрать их. Потом все кончилось. Последнюю машину сбросили в подземный кувшин. Стало скучно, и опять возникли сложности с едой. Виноградом мы заглушали потребность, желание еды, хотя виноград – это не хлеб, и им не насытишься. Тем не менее, я и дети ели его в волю весь сентябрь. Потом – опять тоска по еде, по хлебу.
Часть четвертая. Грузия. Реэвакуация. Евпатория. 1943–1946 годы
Глава 1. Новое жилье. 1943 год
Наконец, в русском бараке освободилась комната. Мы перебрались под более надежную крышу. Была осень, и это было необходимо.
Печь наша, привезенная из Велистихи, встала на свое законное место в центре комнаты и принялась служить нам верой и правдой. Топливом мы разживались в местной бондарной мастерской: стружки, обрезки отлично нам служили, отпала необходимость выискивать дрова всякой правдой и неправдой. Все было бы ничего, если бы не нашествие клопов, которые нещадно кусали нас по ночам. Зажигала ночник и начинала охоту на них, собирая их в коробку с водой. Бараки были деревянные, и очень трудно было с этой дрянью бороться.
Соседи посоветовали побелить комнату. Даже теперь удивляюсь, как это мне, неискушенной в этих делах, удалось все это проделать, но «глаза страшатся – руки делают». Стало немного легче.
Работы в саду закончились, и мне предложили работу в конторе в должности курьера-уборщицы. Я согласилась. Что можно было еще делать, не зная языка? Главное, дети были при мне, в этом же дворе.
Глава 2. Ева
Стала проситься к нам на ночлег девушка. Ева бежала от немцев из Польши в чем была, вещей никаких не имела, денег не было. Все родные остались в оккупации, там и погибли, ибо были еврейского происхождения. Ходила в где-то раздобытой шинели с чужого плеча и в больших солдатских башмаках. Никто не изъявил желания приютить ее. Пришлось взять ее в нашу комнату. Спала на полу, подстелив шинель, и всегда была голодна.
Тяжело нам было это соседство, тем более что ее заедали вши. Эта вшивая зараза распространилась и на нас, хотя мы от этого почти избавились все время боролись с этим злом. Не могу забыть, как меня однажды выставили из очереди, потому что по моему пальто, как у себя дома, разгуливали насекомые, приобретенные в результате соседства с Евой.
Что было делать? Я не могла ее выгнать.
Через некоторое время ее взяли санитаркой в госпиталь. Там она пристроилась с ночевкой и была мало-мальски сыта. Дальнейшую ее судьбу не знаю.
Я снова и снова воевала с насекомыми. Мыла долго не было, стирала золой. Как-то все же военторг вручил мне кусок мыла, это было дороже хлеба. Нашли баню. Несколько часов стояли в очереди, устали. Вода была чуть теплая, дети замерзли. После этого мыла детей дома, грея на углях воду.
Глава 3. Соседи
Соседи были разные: старые, молодые, хитрые, злые, добрые. У всех свой характер, и приноравливаться к каждому было очень трудно. В то время каждый был себе на уме. Все чем-то промышляли, что-то гоношили, скрывая друг от друга.
Особенную дружбу я с ними не вела. По правде сказать, я всех боялась. Евреями в бараке были мы одни. Каждый думал о себе, о своей утробе. Выкручивались, кто как мог.
Все жильцы барака работали в марани винного завода Самтреста. Выздоравливающие раненые из местных госпиталей приходили к ним за вином, которое женщины тайком выносили из марани, где работали. Это казалось в порядке вещей, никто ничему не удивлялся, и никто ни о чем не спрашивал. Жили все за закрытой дверью и питались, видимо, неплохо за счет раненых, любивших выпить.
Не буду описывать всех этих людей, но все они были чужие, и никто руки не протягивал в трудную пору нашей жизни на чужбине. Я их боялась и к ним не заходила ни с просьбами, ни с дружескими беседами.
Глава 4. Работа
Шесть часов утра. Дети спят.
Тихо, чтобы не разбудить их, выползаю из кровати и бегу в контору. Это близко, в этом же дворе.
По двору ходит сторож. «Гамер джобат», - говорит он мне. «Гега маржос», - отвечаю я ему.
Начинаю уборку канторы, вооружившись ведром, метлой и тряпкой. Надо убрать, пока никого нет.
В коридоре, в самом углу потолка, напротив всегда открытой двери свили гнездо ласточки. Под гнездом на полу всегда лежала кучка помета. Ласточки-родители по очереди залетали в коридор и приносили птенцам пищу. Ежедневно соскребала помет, но за ночь он вновь накапливался.
Когда я заканчивала уборку, начинали собираться служащие. В конторе все были грузины, объяснялись по-русски плохо. Все же мы понимали друг друга. Кое-что я уже знала и даже могла объясняться с ними.
Бежала домой собирать детей: одного в школу, другую в садик. Перед уходом делила между ними хлеб. Дочурка упрямилась, не могла выбрать свою порцию, долго не начинала кушать, пока я не добавляла ей довесок.
Днем я исполняла должность курьера. Ходила через железную дорогу в центр Гурджани. Гудели паровозы, свистели проводники; жарко на станции. Ходила в банк, в суд, на почту, в исполком и другие места. Старалась отправляться позднее, чтобы на обратном пути забирать из детского сада дочку.
В садике была небольшая русская группа, воспитателем которой была молодая женщина из эвакуированных. Дочь моя была слабенькой, все еще не поправлялась. Тяжело мне было глядеть на моего больного ребенка: худенькая, бледная, часто болеющая простудами.
Сын меня не огорчал и особых хлопот не причинял. У него были свои мальчишеские дела.
Глава 5. Огород
При доме. вблизи от конторы мне выделили небольшой участок земли. Вскопала с детьми грядки и посадила лобио, кукурузу, лук, редис. Земля в Грузии очень плодородная, что в не положишь, то обязательно взойдет.
Каждую свободную минуту проводила на своем участке, обхаживала, полола, окапывала грядки. Все хорошо взошло и обещало хороший урожай. Я любовалась своим творением. Так хотелось собрать своим трудом выращенный урожай, к тому ж, это было нам так необходимо.
Рядом с моим участком находилась фабрика, где консервировали фрукты, варили варенье, повидло. Эту фабрику стали расширять, и им потребовался мой участок земли. Как говорится, счастье привалило, так ночь коротка.
Стали строить, несмотря на всходы. Было обидно до слез. Взамен недозревшего урожая дали небольшую денежную компенсацию.
Так мы остались без огорода. Теперь уже ходила между постройками и обирала созревшую фасоль, почти утоптанную строителями.
Глава 6. Коллективная кукуруза
Для служащих организовали коллективную посадку кукурузы. Земля была далеко. Отправлялись туда на машинах с вечера на выходные дни. Я тоже записалась.
Поехали сажать кукурузу, потом ездили окучивать с ночевкой. Земля холодная, костров разжигать было нельзя из-за маскировки. Война! Всю ночь не спали. Зуб на зуб не попадал от холода. Хорошо, что простуда не приставала в то тяжелое для меня время.
Дети скучали одни дома, мне же было физически тяжело и одолевали волнения за детей. Я оставляла им все, что могла припасти, чтобы им не было голодно, но дело было в том, что дети съедали все сразу раньше, чем я приезжала и потом, грешным делом, старший мог выпросить шутя у младшей лишний кусок, что за ним водилось.
Работать было трудно с людьми, привыкшими к своему делу, я очень уставала. Однажды не пришла за нами машина, и пришлось идти пешком. До сих пор помню этот тяжелый долгий переход и эти волнения из-за детей. Но надежда на урожай, надежда, что будет своя мука и что можно будет есть лепешки вдоволь, поддерживала мои силы и ребячье терпение.
Глава 7. Судьба родителей
Наконец начали приходить вести об освобождении одного города за другим. С трепетом ждала вестей из Крыма, разыскивала родных, надеялась, что они живы. Медицинский институт эвакуировался в Алма-Ату. Думала, что сестра была там. На мои письма пришел отрицательный ответ.
Когда освободили Крым, стала писать всем подряд, кого знала. Все молчали. Наконец – письмо… Писала врач, Сарра Вениаминовна, жившая с семьей, Нейман напротив нас на Пролетной улице в доме тридцать. По национальности они караимы.
Письмо было потрясающее: все евреи, крымчаки, оставшиеся на родине, погибли от рук палачей. Враг ворвался в Крым и все входы и выходы были закрыты. Мои родители и сестра Зоя переехали в Симферополь к Лии в надежде вместе двигаться дальше в глубокий тыл. Не успели. Было уже поздно. Всех евреев (детей, стариков) согнали в одно место, на Красную Горку. Раздев догола, забрав ценности, расстреляли, бросив в ямы, вырытые ими же самими. Даже хлеб-соль, которыми некоторые «смельчаки» встретили немцев, не помогли. Земля дышала от недобитых тел, от стонов. Криков, от автоматных очередей.
Студентки, которые н успели уехать, уговаривали уйти тайком на Севастополь, чтобы оттуда пробиваться дальше. Лия вывихнула ногу и не могла идти пешком, да и родителей оставить тоже было не легко. Не могу простить себе, что не смогла уговорить их не медлить, а уехать вместе с нами, и у сестры были бы развязаны руки, одна уж как-нибудь выбралась бы вместе с институтом. Близок локоть, да не укусишь.
Письмо было длинное! Писали, как тяжело было уезжать с насиженного места. Все вещи были брошены, а книги, Большая энциклопедия в восьмидесяти двух томах были оставлены папой у них. Караимов немцы то ли обошли, то ли они откупились (как говорят некоторые), то ли их считали «чистой расой».
Много народу погибло в Евпатории. В дни десанта с моря ни один моряк не остался жив, а за погибших немцев расстреливали мирное население.
Судьба тех, кто писал письмо, была трагической. Из большой дружной семьи осталась одна мать и ее сестра с братом в преклонном возрасте (одинокие люди). Сын погиб на фронте, муж погиб при бомбежке, двух дочерей-близнецов после бомбежки мать собирала по кускам. Разум мог помутиться, если бы она не взяла из родильного дома, где работала, ребенка, оставленного фронтовичкой. Была она уже не молодая, но девочку удочерила и заботой о ребенке немного отвлекалась от своих страданий.
Не дочитав письма, я целый день рыдала на своем топчане, не обращая внимания на плачущих детей и соседей, пытавшихся меня успокоить. Но что было делать? Надо было жить, заботиться о детях!
Осталась я сиротой. Ни родителей, ни сестер. Вся надежда, что муж останется жив. На его родителей, оставшихся в Ленинграде, надежды уже не было, хотя писем я еще не имела. Блокада!
Глава 8. Время работает на нас. 1943 год
Шло время, самое дорогое, что нельзя терять попусту. Куда бежало оно и как было его догнать?
Война все шла, отнимая у человека самые лучшие годы его жизни. Однообразно шли у нас дни, недели, месяцы на чужбине. Ежедневно мыла, скребла эти чужие, ненавистные мне полы конторы и ждала лучших времен. Лихорадочно прислушивалась к тому, что делалось на фронтах, и ждала писем.
Сын гонялся с грузинскими мальчишками по окрестностям. Железная дорога была рядом. Однажды прибежал к конторе, где я трудилась, с плачем, весь в крови. Раздавил себе палец, играя у старой дрезины на рельсах и отбил себе половину переднего зуба. Я так растерялась, что стала поливать палец водой из графина. На крики выбежали конторские женщины, отобрали графин и отвели нас в госпиталь. Наложили швы, уложили руку в лубок. Долго болел палец, ходили на перевязки. Так и зажил кривой в память о военном времени и бродяжничестве по свету белому.
Вечные тревоги, волнения за дочь.
Ждали писем, ждали прорыва блокады Ленинграда, ждали конца войны; ждали, когда можно будет уехать восвояси. Ждали порядка и места в жизни. Ведь в гостях хорошо, а дома лучше. И все же время работало на нас. А пока война все продолжалась.
Глава 9. Американские подарки. 1943 год
Мы до того оборвались, что из комбине пришлось соорудить комбинированное платье. Даже смешно вспоминать. Дети ходили оборванные. Каждый раз с болью вспоминала потерянный мешок, где было все необходимое, чтобы мало-мальски нормально выглядеть.
Все спасение было – в тепле, иначе нам было бы несдобровать.
Не помню нашу обувку. Помню сапожника, который латал нашу обувь за кусок хлеба, приходилось отрывать этот кусок от себя.
Однажды прошел слух, что эвакуированным будут давать американские подарки. Очередь выстроилась с ночи, раньше, чем привезли эти подарки. Стоять в очереди у меня не было времени; работа, дети не давали мне этой возможности. Когда все получили, я пришла за своей порцией. Конечно, мне досталось то, что осталось: кофта шерстяная не с моего плеча и свитерок для дочки, довольно тесноватый. Сыну ничего не нашли. Было обидно, что на мальчика ничего не было. Так или иначе, мы были довольны и этим.
Вещи были ношенные. Видимо, американцы собирали свои обноски для пострадавших от войны людей. Ну что ж, спасибо и за это!
Глава 10. Пловец. 1943 год
К конторе прибежали мальчишки и потащили меня к круглому старому бассейну с зеленой водой. Плавали там головастики и лягушки. На сей раз там плавали ребята и с ними мой сын, демонстрируя свое умение держаться на воде. Сначала он судорожно держался за крючок, вбитый в стенку бассейна, а потом при виде меня поплыл. Я пришла в ужас. Там было с головой, и зеленые водоросли покрывали воду. Я приросла к месту, не зная, как быть: отлупить? Отругать? Или уйти?
Мальчишки хохотали и лопотали на своем грузинском языке: «Супта цхали» (чистая вода) и «Каргия бичо» (хороший мальчик), «Арапери, арапери, деда» (ничего, ничего, мама).
Вот тут, в старом грязном бассейне с головастиками он научился плавать вместе с грузинскими мальчишками, с которыми он общался вне школы во дворе.
Глава 11. Школа. Все хорошо, что хорошо кончается
Школа с небольшой русской группой ребят, с одной учительницей из эвакуированных была далеко от нашего жилья и по дороге высоко в гору. Я всегда с опаской провожала сына в школу и ждала с нетерпением обратно, боясь какой-нибудь новой проделки. Дорога шла через рельсы железной дороги, и это меня тревожило.
Однажды он не пришел домой до самого вечера. Не знала, что думать. Обегала всех соседей, у кого были школьники. Все были дома, а моего никто не видел. Опять волнения! До чего же было много тревог на меня одну.
Побежала искать на другой конец города, где была школа.
«Счастливые часов не наблюдают!» Это за ним водилось. Заигрался с грузинскими мальчишками из группы продленного дня и забыл все на свете. Забыл, что не ел, забыл, что мать глаза проглядела и ноги пробегала. Я же уже была рада, что цел и невредим и что волнения закончились. Разве только влепила пару тумаков за непослушание. Легко отделался!
Все хорошо, что хорошо кончается.
Глава 12. Дочь. 1943 год
Моя бедная маленькая дочурка! Я ее рано будила и отводила в садик. В садике она была самая тихая, самая слабенькая. Бегать наравне с другими своими ровесниками не могла. Сердечко так и не поправилось после болезни, напрасно я на это надеялась.
Было на ней бордовое вытертое бархатное платьице, которое стало совсем мало. Приходилось часто его стирать: смены не было, все осталось в украденном мешке.
Однажды из садика привела ее нянечка в неурочное время. У меня похолодело в груди. Что еще стряслось? Побежала навстречу, не чуя ног. Оказалось, заболела. «Рвота, температура, озноб», - объяснила мне нянечка на грузинском языке. Уложила дочку. Совхозный врач определил малярию. Это было совсем не кстати, Элочка была и так слаба. Пришлось поить хинином. Тревоги, тревоги!
Природа ничего не признавала. Все цвело, благоухало. Воздух был чист, солнце целый день лелеяло землю, и до человеческих страданий природе не было никакого дела. Все у нее шло своим чередом. Зиму сменяла весна, весну – лето. Было тепло.
Кахетия - это чудо из чудес. Идешь вечером, а высоко в горах – огни города Телави. Куда-то вдаль мчатся поезда, выплывают обратно из-за гор. Так смотрела бы на все это, любовалась бы чудесной природой, если бы не заботы и бесконечные тревоги, от которых все время ныло сердце.
Мы ждали известий из Ленинграда. Там остались родители мужа, и что с ними, ни мы, ни муж не знали.
Элочке стало лучше, температура спала, и все пошло по-прежнему. Мои тревоги за здоровье дочки не прекратились.
Глава 13. «Дела давно минувших дней…» 1943 год
Уже начинают зарастать мозговые извилины, но разве можно забыть, как сын бегал по рынку с грузинскими мальчишками в воскресные дни с кувшином холодной воды и кричал: «Циви цхали» (холодная вода). Рынок кишел, как улей, от наехавших крестьян, было жарко, хотелось пить. Все наперебой просили воду: «Бичо, бичо, майта цхали» (мальчик, мальчик, дай воды). В благодарность награждали фруктами. Домой сын возвращался с полной противогазной сумкой, на стол вываливались груши, сливы, инжир, абрикосы. Яблоки у них плохие, а картошка – редкое явление. Все это было не лучших сортов, но есть было можно.
Еще мы придумали покупать семечки. Дома я их обжаривала, и Лева бегал к госпиталю, где гуляли выздоравливающие раненые, они с удовольствием брали семечки, а взамен давали спички, куски сахара. Это было тоже подспорье. Спички и сахар мы обменивали на «пури чаду». Чего только не придумаешь, чтобы быть мало-мальски сытыми.
В военторге как-то невзначай увидела английские булавки, купила и, к моему удивлению, смогла их обменять на лобио и чаду, и пока они были, я это проделывала. Потом булавки исчезли. Стоили они два рубля десять штук, а чада и лобио – десять рублей (тумани). Дешевле ничего не было, и лепешки с мисочкой фасоли и стакан вина, все мерилось на тумани (десять рублей). Вот так жили и приспосабливались. А что было делать? Ребята хотели есть, да и у самой все время ныло в животе.
Глава 14. Макуха
Конечно, это был не блокадный Ленинград, но и тут у нас всегда была тяга поесть, тяга к хлебу. Кушать всегда хотелось.
Стали на рынке покупать макуху (отжимки из подсолнечных семян). Это было дешевле, чем мука, на которую не хватало денег. Грызли макуху по целым дням. Как только не ломались зубы? Это заглушало голод. Отмачивали ее и, добавив пару ложек муки, пекли лепешки детям. Так было кушать легче. Не скажу, что это было вкусно, но все же терпимо.
Однажды удалось приобрести арахисовую макуху – это была роскошь. Все вкусно, если хочется есть. Сейчас этого мы есть не стали бы.
Глава 15. Чурчхела
В совхозе был цех, где изготавливали грузинское лакомство – чурчхелу. Это была большая постройка, никого постороннего туда не пускали. Работали там грузинки в белых халатах и белых косынках.
Однажды мне довелось заменить заболевшую работницу. Я была рада этому случаю, ибо сгорала от любопытства, над чем там колдуют женщины за закрытой дверью?
Обрядили меня в белый халат и посадили к котлу варить «татару», помешивать деревянной ложкой. Чтобы не пригорела.
Сначала кипятят виноградный сок до тех пор, пока сок не превращается в сладкий сироп, который потом заваривают мукой. Получается «татара». Это очень вкусная кашица. В татару окунают нитку с нанизанными орехами. Вот и чурчхела, на вид похожая на охотничьи сосиски. Свежую чурчхелу привязывают к палочке и ежедневно сушат на солнце.
Это грузинское лакомство часто появлялось на столе, когда мы только приехали и нас еще угощали. На рынке чурчхела стоила тумани (десять рублей) одна штука. В этот день мне дали пол килограмма татары для детей, был праздник. Больше меня туда не приглашали. А жаль.
Глава 16. Вести из Ленинграда
Наконец, мои многочисленные письма и запросы стали доходить до Ленинграда. Нашелся живой человек, который ответил мне. Это был наш бывший сосед, от которого мы в свое время отделились стеной, устроив себе отдельную квартиру, - Сергеев Михаил Сергеевич. Он после снятия блокады вернулся в Ленинград (что-то было не ясно в этом, ибо он не сумел отсудить свою квартиру, занятую другими людьми из разбитых домов) В Вырице были у него родичи, и он с женой поселился там. Ему передали мое тревожное письмо, и он ответил. Что было правдой, что неправдой, так и не узнала по прибытии. Спрашивать было некого, мало кто остался в живых из честных блокадников.
То, что он писал, читать было выше моих сил. Сердце сжималось от жалости и ужаса.
Блокадный Ленинград! Мало кто уцелел из простых смертных. Сколько печальных судеб, сколько трагедий. Судьбы близких людей. это каждого тревожит особо.
Отец работал в продуктовом магазине, а умер от голода. Слишком честным был человеком, - писал Сергеев. До последних дней жизни делился с ним бескорыстно папиросами, чем его очень умилял, и он очень удивлялся, что, работая в торговле, отец не мог сохранить себе и жене жизнь. По словам соседа, мать свезла его, завернутого в одеяло, на санках на Волково кладбище, и там его похоронили, выкопав яму за полкило хлеба. И якобы он, Сергеев, помог ей в этом. К сожалению, могилу не запомнил и не нашел.
Осталась мать одна в нетопленой отдельной квартире, где бегали голодные крысы, где от бомбежек были разбиты стекла и заделаны фанерой. У мамаши болели ноги, и ходить она не могла. Кто-то из соседей по двору выкупал ей хлеб.
Когда она умерла, так никто и не знал, пока не кончился месяц и весь хлеб не был получен соседями (да и обвинять их в этом было нельзя). Потом квартиру вскрыли и вынесли труп на улицу, присоединив к таким же несчастным, которых потом подобрали и свезли в братские могилы на Пискаревское кладбище или в другое место.
Сергеев об этом не знал. Он сообщил, что дворники нашу квартиру заколотили гвоздями, как квартиру военнослужащего, предварительно забрав из нее все, что было ценного и мало-мальски пригодного. К сожалению, не сохранилось его письмо для истории, о чем жалею до сих пор.
Сидела опустошенная, слез уже не было. Оставалось ждать конца войны и терпеть, терпеть все трудности этого времени.
Глава 17. Сборы. 1944 год. В Крым
Наконец освободили Крым. Все, кто был из тех мест, стали собираться домой. Стоял вопрос: куда ехать?
В Евпатории никого не осталось, в Ленинград нужен был вызов, которого пока не было. Война продолжалась!
Грузины торопили с отъездом: эвакуированные им надоели. Был организован специальный эшелон для реэвакуации. Пришлось нам собираться в путь. Решила все же ехать в Евпаторию. Все было туманно и неясно. Но все же Евпатория была родиной, моей землей, хотя поруганной и разбитой фашистами.
Грузины не видели войны на своей территории и не предполагали быть беженцами. Иначе относились бы к нам, эвакуированным, терпимее. Нас торопили. Я даже не дождалась поспевающей кукурузы, которую посадила и на которую потратила много сил. Пришлось кукурузу продать на корню. Получила по тем деньгам четыреста рублей – в пять раз дешевле стоимости. Торговались грузины с пеной у рта ежедневно. Взяла, что дали.
Были сборы недолги. В последний момент завхоз н дал подводу, которую накануне обещал. Поезд не ждал, время подпирало. Вытащили пожитки. Соседи молча наблюдали. Но вот от общей группы отделилась и подошла к нам моя соседка по бараку, на которую меньше всего рассчитывала – Люба. Она взвалила на плечи наш тюк с постелью и потащила на станцию, а мы с Левой остальное поволокли. Дочь шла медленно, приходилось ее поджидать или возвращаться за ней, нести на руках.
Запыхавшись, с трудом дотащились, чуть не опоздали на поезд.
Я благодарна была этой женщине Люб, с которой мало общалась и которая оказалась такой милосердной. Так я думала, сидя в поезде. Перебирала в памяти нашу жизнь в этом бараке. Люба была молчаливая высокая гордая женщина. Я немного побаивалась ее, в контакт не вступала и не старалась. Знала, что муж на фронте, что сестра ежедневно с работы приходила нетрезвая (работала в марани), и что у них была коза, которую на ночь брали в комнату. Была у нее дочка пяти лет.
Я даже не успела ее отблагодарить, она исчезла в вокзальной сутолоке. Поезд тронулся.
Глава 18. Едем. 1944 год
Замучила детей бесконечными переездами. Эта дорога показалась недолгой.
Пробел в памяти… Сколько ехали и как доехали. Не помню. Помню попутчицу с тремя детьми. Жила она в Гурджани и решила уехать с эвакуированными в Крым (еврейка). Запомнила ее, потому что в дальнейшем пришлось с ней встретиться и помочь ей в Евпатории. Звали ее Софья Гуревич. Работала бухгалтером. Мельком я встречалась с ней, будучи курьером.
Состояние мое было двоякое. Рада была, что еду домой, где прошло мое детство, где так недавно я с детьми была у своих родных, и все так ясно стояло в глазах и не верилось, что все позади. Страшно ныло сердце, что никто нас не встретит, никто не ждет, никого нет и не будет. Страшно было об этом думать. Слезы все время душили меня. Как все это было непоправимо, и как все глупо получилось! Могли бы уехать с нами. Но близок локоть, да не укусишь. Все представляла под стук колес, как это с ними произошло, что чувствовали эти несчастные люди, идя на смерть. Боже. Как все было страшно.
Вот и море! Такое гордое, прекрасное, как всегда, из века в век; никаких следов войны не отражало.
Поезд замедлил ход, и мы стали собираться.
Глава 19. Евпатория
Евпатория встретила нас угрюмо. Кругом развалины чужие люди. Оглядывалась и не узнавала знакомые места. Татары не встречались, их выслали из насиженных мест еще в начале войны, говорили, что они предатели. Крым теперь был не Татарской республикой, как в мои школьные годы, а стал Украиной.
Вышли из поезда, вытащили наш незамысловатый багаж и не знали, куда нам идти.
Глава 20. Евпатория послевоенная
Решили направиться «домой», на пепелище моих родителей и сестер, где прошло мое детство и отрочество.
Двор был почти разрушен, но родительская квартира сохранилась. Жили там чужие: люди с другой улицы, я их немного знала. Дом их сгорел при бомбежке, и они заняли эту свободную квартиру со всем находящимся в ней имуществом. Для них наш приезд был неприятным сюрпризом. Были уверены, что вся наша семья погибла.
Пришлось им потесниться и одну комнату временно уступить нам. Я восприняла это как любезность. Имела ли я права на квартиру моих родных, этого я не знала. Наша прописка была в Ленинграде, я была давно «отрезанным ломтем», дом уже был не моих родителей, а жактовский, чувствовала я себя далеко не уверенной в своей правоте, претендуя на квартиру.
Я не стала хлопотать, нашла другую комнату, пока свободную, и мне легко дали на нее ордер. Комната была полуразрушена, в подвальном помещении. Ни стекол, ни плиты, ни солнышка.
Собрала кое-какие вещи из мебели родителей (кровать, стулья, книжный шкаф). Все это было в нашей квартире и у соседей. Чтобы не быть в тягость людям, перебралась. На вырученные от продажи не созревшей кукурузы деньги купила мешок ячменной муки, вставила стекла и починила плиту.
Неприветливо выглядело наше жилье, но что было делать? Я надеялась, что это временно, и что в конце концов мы уедим в Ленинград.
Как бы то ни было, Евпатория, моя родина, нас приняла и без крыши не оставила. Другим моим попутчикам не так повезло.
Глава 21. Жизнь как жизнь
Постепенно стали возвращаться эвакуированные соседи. Приехали Маркушевичи. Их сынишка подрос и был на фронте. Писем не было, и у матери глаза не высыхали от горя. Комната была разрушена, и пока ремонтировали, жили в сарае. Приехали Звягельские, соседи моих родителей. Я их знала с детства. Я рада была каждому знакомому человеку и тому, кто знал нашу семью.
То и дело встречались знакомые, возвратившиеся на свои пепелища и сызнова начинающие восстанавливать нарушенную войной жизнь. Сколько горя пережили люди, сколько трагедий.
Моя школьная подруга Поля Пикерман осталась с семьей в Евпатории. У нее было двое детей, отец, мать и замужняя сестра. Была она молода и красива. Трудно сказать, на что надеялась.
В один из тех дней, когда немцы оккупировали Крым и выискивали оставшихся евреев, Поли дома не оказалось. Забрали в Гестапо всю семью: стариков, детей. Придя домой и не застав своих малолетних детей, она с криком бросилась в комендатуру на выручку своей семьи и оттуда уже не вернулась.
Могла ли она поступить иначе? Ведь там были ее дети!
Глава 22. Еще о соседях. Сарра Вениаминовна Нейман
Сарру Вениаминовну Нейман (ту, которая писала мне о судьбе моих родных) трудно было узнать.
Над беседкой свисали ветки винограда, создавая тень. Удивительно, как эта беседка сохранилась, ибо половина дома была повреждена. В тени стояла коляска с приемной девочкой. Сарра Вениаминовна сидела рядом, качая коляску. Лицо ее от пережитого было землистого цвета, и никакой прежней приветливости и улыбки. Грустно встретились. Я ни о чем не спросила, ждала, пока сама заговорит.
Жила она вместе с холостым братом и одинокой сестрой. Все их помыслы были об этой приемной девочке.
Подробности были горькие. Как это было тяжело – слушать о моих погибших родных, - передать трудно.
Папина энциклопедия хранилась у них. Папа надеялся еще вернуться и забрать книги. Это пришлось сделать мне. На каждой книге сверху было написано: «Из книг Самуила Эпштейна». Теперь эти полоски с надписью во всех восьмидесяти двух томах были вырезаны. Кто знал, как фашисты отнеслись бы к этой еврейской фамилии, поэтому, во избежании неприятностей, все это вырезали. Забрала книги в свою комнату и сложила в сохранившийся книжный шкаф.
Ежедневно я приходила к ним, чтобы еще раз услышать подробности о моих навеки потерянных родных и оплакивать мое и их горе.
У них еще доживала совсем старенькая бывшая заведующая детской библиотекой Мария Васильевна. Она плохо слышала, но меня хорошо помнила и узнала.
Глава 23. Дела житейские
Сарра Вениаминовна была детским врачом и работала в детской поликлинике. Отвела Элочку туда. У нее ножки были в золотушных болячках. Что только не приставало к бедному ребенку!
Делали ей молочные уколы, которыми в свое время лечили меня от фурункулов. Уколы помогли, стало лучше.
Прикрепились к столовой для семей военнослужащих и стали ежедневно там питаться. Брали обеды домой. Это было, на наш взгляд, выгоднее. Дома пекли ячменные лепешки из купленной муки в добавление к пайку. По дороге из столовой подходили к морю. Оно по-прежнему шумело и пенилось у разбитого бульвара с ломанными скамейками. Везде были следы войны. На пляже не было ни ребятишек, ни приезжих. Было тихо.
На море было, как прежде, в мирное время. Никаких следов пережитого.
Теперь над головой была крыша, с питанием было мало-мальски налажено. Не густо, но терпимо. Начали успокаиваться. Ждали писем на новый адрес.
Элочка стала крепче. Ходили с ней в поликлинику, и ее немного подлечили.
Глава 24. Семья Гуревичей. 1944 год
Однажды я встретила семью Гуревичей, моих бывших попутчиков. Оказывается, они все еще были не устроены. Жили в Доме колхозников, где надо было платить за каждый прожитый день. Вид у них был измученный. Жаль мне их стало и до боли захотелось им помочь выйти из этого положения. Недолго думая, пригласила их временно в нашу «хату». Мои дети не возражали. Это было не очень удобно. Люди мы были чужие, но ведь жили в эвакуации вместе чужие и свои семьи.
На том и порешили. Добыли еще одну кровать у С. В. Нейман, помогли перетащить вещи и впустили их к себе.
Дети есть дети. Шумели, баловались, дрались. Все было.
Не помню, сколько они прожили у нас. По-видимому, до глубокой осени. Потом мать устроилась на работу в бухгалтерию, и им дали полуразрушенный домик, который пришлось долго восстанавливать с помощью нанятых рабочих, на что ушли все их сбережения. Долго домик был без ступенек, и туда забирались по деревянной шаткой лесенке, приставленной к высокой двери. Дверь долго нельзя было закрыть. В дождливую погоду крыша текла, и всюду стояли миски под каплями, которые поливали комнату.
Теперь у них был свой угол, и мать торопилась перебраться туда.
Дети пошли в школу. Весной на дворе вскопали грядки.
Мы с ребятами часто их навещали, помогали устраиваться. Вскоре вернулся их отец из госпиталя. Человек он был не совсем приятный, тем более что выпивал, и начались неприятности в семье. Стали мы видеться реже, стало неприятно с ними общаться, и дружба померкла. Иногда встречались вне дома, забегая друг к другу на работу.
Глава 25. Все хорошо. Что хорошо кончается. 1944 год
Был жаркий день. Ребята из нашей комнаты, а их было пятеро – «полный детский сад», - побежали на море купаться. Элочка пошла с ними.
Детей долго н было. Я стала беспокоиться. Наконец дети прибежали. Взволнованные, испуганные. Элочки с ними не было. Как они ее потеряли и куда она делась, объяснить никто не мог. Бегать с ними наравне не могла. Надо было искать. Видимо, она от них отстала.
Оббегали с Левой весь пляж, сквер, бульвар, всех спрашивали. Решили вернуться домой: авось вернулась домой сама. Но ее не было.
Пошли в милицию за помощью. Ног под собой не чуяли, пока добрались. Милиция от нас была далеко, в новом городе, а мы жили в старом. Какова же была наша радость, когда мы увидели там нашу потеряшку. Глаза заплаканные, ротик улыбался и жевал яблоко с куском хлеба. Угостили.
Постовой нашел ее на улице, плачущую и не знавшую, куда идти, и привел в милицию. Поблагодарила за чуткость и внимание.
По дороге домой брат выпросил у сестры половину угощения. Всю дорогу они смеялись и рассказывали друг другу подробности происшествия. Все хорошо, что хорошо кончается.
На душе было легко. Пришли домой, а дома нас ждал треугольник от папки. Все было пока «о’кей». Жив, здоров, чего и нам желал.
Глава 26. Школа
Очень тысяча девятьсот сорок четвертого года. Элочке восьмой год. Невзирая на ее слабое здоровье, решила отправить ее в школу.
Немцев уже гнали от этих мест все дальше и дальше, и была уверенность, что сюда эта свора не вернется. Жизнь в Евпатории входила в свой ритм. Отремонтировали школу, и она готова была принять учеников.
Первого сентября двор заполнился детворой с цветами и провожающими. Директор приветствовал ребят. Было сказано много теплых слов в адрес фронтовиков и горожан, погибших в дни оккупации. Напутствия, напутствия!
Итак, начались школьные годы. Сын тоже пошел в четвертый класс. Одежонка была ветхая, не знала, с какой стороны штопать и зашивать. Это был уже второй план, хотя и очень важный. Главное. Было тихо и ничто нам не угрожало.
Глава 27. «Бизнес»
Соседка Звягильская, вернувшись из оккупации, предложила мне «коммерцию». По простоте своей я согласилась. Жилось ей тоже нелегко: муж погиб на фронте, у дочери муж пропал без вести, была маленькая внучка и сын. Было голодно, и надо было как-то изворачиваться.
Купили муки, напекли булочек. Продавать их пошла я, она на это не согласилась. Я все еще не работала, не решаясь оставлять детей без присмотра.
Булочки охотно разбирались, но милиция охотилась за такими торговками. Приходилось изворачиваться, осматриваться, чтобы не попасть в историю.
Из своей затеи мы выгадывали по несколько булочек себе, и это был весь наш заработок. Игра стоила свеч, если я могла побаловать детей вкусной домашней выпечкой.
Несколько раз меня предупреждала рыночная милиция, а потом отобрали паспорт. Пришлось отправляться за ним в отделение милиции, где взяли с меня подписку, что я с этим покончу. Разделили мы с соседкой непроданные булочки между собой, на этом дело кончилось. Сама соседка на рынок не ходила, и все шишки сыпались на меня. Это называется «загребать жар чужими руками». Хитрая была женщина.
Глава 28. Заготзерно. 1944 год
Итак, я пошла работать в Заготзерно. От дома это было далеко, но я была молода – 32 года, и меня дорога не пугала. Туда и обратно я ходила пешком, сердце еще было в норме, хотя переживаний было предостаточно.
Дети ходили в школу, обедали в столовой или брали обед домой. Как все это у них получалось, трудно сказать. Приспосабливались! Делать больше было нечего. Главное, беспокоила меня дочь. Все время наказывала сыну присматривать за ней и не обижать. Дети есть дети, все у них бывало, и слезы, и жалобы.
На работе меня поразили горы пшеницы, которые свозились в Заготзерно со всего района. Зерно все время перелопачивали из кучи в кучу, чтобы просушивалось и не прорастало. Была осень, и часто лили дожди. Кучи зерна покрывали брезентом, а потом женщины опять работали лопатами. Пшеницу все подвозили и подвозили, взвешивая на специальных весах вместе с машиной. Высушенное зерно ссыпали в амбары, и там снова и снова его перекидывали из кучи в кучу. Мне все казалось, что зерно плохо хранят и долго держат под открытым небом.
Грузчики были женщины, они таскали на спинах мешки с зерном, курили, ругались, как заправские мужики. Что сделала война! Женщины огрубели и совсем не походили на представительниц прекрасного «слабого пола». Я их сторонилась, боялась нарваться на грубость.
При Заготзерне была столовая. Мне поручили калькулировать ее. Не буду несправедлива, иногда перепадал мне кулек муки или лишняя порция обеда для детей.
Очень хорошо запомнилась наша расчетчица, молодая девушка, пережившая оккупацию, водившая дружбу с немцами. Все смотрели на нее косо, с недоверием. Она дерзила, на всех смотрела свысока, была скрытна, никому ничего не рассказывала о себе и о своих похождениях и часто отсутствовала, а потом и вовсе исчезла. Говорили, что ее «выслали в неизвестном направлении».
Работала я старшим бухгалтером, учитывала поступившее и отпущенное зерно в рублях. Работа была рядом с морем, и мы с сотрудницей, которая была мне по духу ближе, пообедав, мчались к морю и, окунувшись в уже прохладную воду, мчались обратно к письменным столам. Другого времени для этой роскоши не было.
Глава 29. Бетя Мазо. 1944 год
Тут есть, что вспомнить. Расстались мы с ней в эвакуации, когда Бетя с семьей уехала на чайные плантации в Абхазию в погоне за лучшей долей, и больше мы ничего друг о друге не слышали. Вдруг Бетя объявилась в Евпатории с сыном Борисом и мужем Пантелеем Гапоновым, который после госпиталя был освобожден от военной службы. Родители ее остались в Кутаиси, где они основательно устроились при синагоге. Мать разбил паралич, Бетя за ней ухаживала, а когда приехал муж, она оставила родителей и уехала.
Дом в Евпатории, где они жили до войны, сгорел при бомбежке, Бетя с семьей заехала ко мне. Я была рада встрече! После того, как все мои родные погибли, я в ней увидела родного человека.
Пока они не нашли квартиру, решили жить вместе со мной, как в сказке «теремок». Гуревичи уже устроились, теперь подруга прикатила. Скучать не давали. Я не возражала. Борис был ровесником Левы, и особенных недоразумений между нами не было. Конечно все это затянулось: квартиру не находили и, по-моему, не искали, зная, что я в конце концов уеду в Ленинград. Жили с нами, часто вызывая мое раздражение. Поэт писал о доброте:
Эх ты, доброта, доброта!
Добротою слыть погоди!
Никакая ты не доброта,
Если хочешь всем угодить.
Доброта – это та,
От которой пятится Ложь,
Негодяя бросает в дрожь!
Хорошо сказано!
Я знаю только: сделай много раз хорошо, а только один раз плохо – останешься плохой. Так не лучше ли отказать сразу? Об этом стоит подумать. Мой слабый характер меня всегда подводил; и на этот раз, и в последующие не лучше было.
Глава 30. Радостная встреча. 1944 год
Миша, мой двоюродный брат, каким-то образом оказался в Евпатории и нас разыскал. Это была потрясающая встреча. Мы бросились друг другу в объятия и не могли опомниться от радости. Мы виделись с ним в последний раз, когда были молоды и свободны, когда рисовали себе заманчивые картины будущей жизни. Теперь мы были зрелые люди.
Познакомилась с семьей: женой Лидией Федоровной и дочуркой Женей.
Миша работал главным бухгалтером на военном предприятии у нас в городе и жил недалеко от нас.
Сознание, что я не одна, что рядом родственники, несказанно меня радовало. Мы стали часто встречаться, и это стало моей отдушиной, где я могла поведать все мои огорчения, затруднения, и где я всегда могла получить добрый совет и помощь.
Лида оказалась простой и очень родственной женщиной и всеми силами старалась нам помочь. От Жени перешло Элочке платьице, в котором она ходила в школу. Тогда это было очень важно: мы были практически раздеты и поэтому так запомнили этот момент.
Миша от военной службы был освобожден в связи с плохим зрением. Он ходил в очках с очень толстыми стеклами. Была сильная близорукость, впоследствии перешедшая в глаукому и почти полную слепоту. Леня, ее брат остался в блокадном Ленинграде, и о его участи я узнала, уже будучи в послеблокадном городе при встрече с Рахиль Солитой. Он умер от голода. Когда она рассказывала об этой трагедии, мурашки бегами по коже. Приходил он к ней, но она ничем помочь не могла: сама голодала (а он к тому времени потерял карточки). Как было страшно смотреть на голодного человека и быть не в состоянии ничем ему помочь, кроме кружки кипятка! Он умер у нее на глазах.
Лека, второй брат Миши еще до войны пропал без вести из-за какого-то глупого анекдота, его забрали (тогда было такое время). Мать в дни оккупации погибла в Симферополе вместе со всеми евреями. Миша, так же, как и я, из всей семьи остался один.
Все было бы хорошо, если бы Мишу с семьей не перевели в Симферополь, где было их правление. Это меня очень огорчило. После недолгих сборов они уехали, и я потеряла в их лице очень близких людей.
Скучать долго не пришлось. Мы тоже были «на колесах». В скором будущем предстоял путь в Ленинград, связанный с большими трудностями в то тяжелое послевоенное время. Но об этом – дальше.
Глава 31. Орден «Красная звезда». 1944 год
Муж в последнее время служил в санитарном поезде, он был старшим лейтенантом и ведал снабжением раненых продовольствием. Поезд развозил раненых по госпиталям подальше от фронта. На фронт за ранеными и обратно.
Писал часто, посылал фотокарточки. Однажды прислал фото с орденом Красной Звезды на груди. Вот была радость! Дети гордились, всем показывали фотографию.
Глава 32. А время шло…1945 год
Мы терпеливо ждали дальнейших событий в нашей жизни. После летних каникул дети снова пошли в школу. Элочка подросла, пошла во второй класс. Я продолжала работать.
Немцев гнали. То и дело встречались пленные немцы, которые восстанавливали то. Что разрушили. Вид у них был довольно-таки ничтожный. Мы понимали, что немцы были разные, но мы их всех подряд ненавидели. Столько страданий, столько погибших душ, которые уже не вернуть.
Вернулись в Евпаторию подруги, такие как Мира Гулько, с которой мы вступали в комсомол и играли в самодеятельности. Она после войны с семьей обосновалась в Евпатории и была счастлива. Вернулась домой Муся Сницер, моя верная подруга. Вернулась с дочерью в свой старый полуразрушенный дом. Бетя с семьей продолжала жить с ними.
Я с ужасом думала, что нам снова предстоит дорога. А время шло. Наступил тысяча девятьсот сорок пятый год.
Глава 33. Победа. 9 мая 1945 года
Девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года…
Помню, как нам забарабанили в окна с криком: Победа! Победа! Мы так долго ждали ее, что все в душе перегорело.
Прибежала Ревекка Михайловна Маркушевич, рыдая и ломая руки. Ее сын Миша погиб в последние дни войны. В душе поднялась не столько радость, сколько боль за погибших, за миллионы положенных жизней.
Мы выбежали на улицу. Люди плакали и смеялись, целовались и обнимались. Горе и радость – рядом. В каждой семье потери, вдовы, сироты, обездоленные старики, оплакивающие своих сыновей и дочерей.
По сей день в День Победы на душе горечь и обида. Прошло уже тридцать шесть лет после того дня, который забыть нельзя.
Стихийно возникла демонстрация с музыкой и танцами. Все вышли на улицу. Сердце рвалось от счастья и тоски. Заплаканные лица и радостные глаза. Равнодушных не было. Наконец – мир, но какой ценой!
Теперь надо ждать отца. На душе все же было неспокойно. Газеты то и дело сообщали, что где-то еще стреляют, сопротивляются, и люди гибнут после победы.
Предстояло нам еще очень много хлопот и переживаний. Надо было ехать домой в Ленинград. Там остался наш дом, и было ничего не известно о его судьбе.
Мне до сих пор не ясно, надо было мне стремиться в Ленинград или лучше было остаться в Евпатории? Но после драки кулаками не машут.
Глава 34. Вызов в Ленинград
Я ждала вызова и опасалась получить его. Я так хотела оттянуть подальше это время – до теплых дней.
Наступила осень тысяча девятьсот сорок пятого года. Осыпались листья в сквере и садике напротив. Зелени в Евпатории не очень много, зато море. Оно зловеще шумело под напором ветра, который гуляет в это осеннее время. На пляже уже никого не было, разве прохожий останавливался поглядеть на это кипящее, пенящееся море.
Комната у нас была мрачная, окна близко к земле. Солнце в комнату не попадало. В осеннее время было неуютно, зато летом при жаре было хорошо, прохладно. Несмотря на все недостатки, я с радостью осталась бы в Евпатории на всю оставшуюся жизнь.
Все получилось совсем не так. В один из таких осенних дней пришел вызов в Ленинград. Муж проездом, по военным делам побывал в Ленинграде и навестил нашу опустевшую квартиру, сорвал гвозди, и первое, что увидел – убегавшую крысу. Квартира была пуста. Все, что можно было взять, было взято, а что горело – сожжено еще во время блокады. Была угроза лишиться квартиры.
Муж, несмотря на то, что не было дров и окна были забиты фанерой, было холодно и грязно, выслал вызов.
Была поздняя осень. В Крыму еще не холодно.
Он не представлял себе и не подумал, что ждет нас в зимнее время в Ленинграде. Он нас торопил. Демобилизация пришла намного позднее, ибо было еще много дел по ликвидации военного хозяйства и определения раненых.
Мы решили тронуться в путь, не думая, насколько все будет трудно, невыносимо – предел возможного для моих сил.
Глава 35. Сборы в дорогу. 1945 год
Начали собираться в дорогу, приводить в порядок наше незавидное имущество. Обуви не было, теплого одеяния тоже. Я надеялась, что все-таки что-нибудь найду в Ленинграде. Все зимнее оставалось там, может быть, что-нибудь осталось?
Книги, восемьдесят два тома Энциклопедии, которые сохранились, хотела продать, но за книги давали мало, требуя еще четыре тома. У меня их не было. Решила книги увезти с собой.
Жаль было уходить с работы: уже привыкла, освоилась. Так не хотелось опять все ломать себе и детям. Делать было нечего. Муж звал домой в Ленинград. Взяла расчет с хорошей характеристикой, дети распрощались со школой.
Когда соседи узнали, что мы уезжаем, предложили мне вознаграждение за передачу ордера на квартиру и прописку. Это было бы нам весьма кстати, но мой характер и совесть! Жила у меня Бетя с семьей, которая так и не нашла жилье. Я безвозмездно отдала ей ордер, переписав на ее имя, и оставили ей квартиру со всем содержимым родительским имуществом, которое мне удалось собрать. К сожалению, это пошло не впрок. С мужем у нее после войны не ладилось, и она через некоторое время, все оставив, укатила в Кутаиси к родителям. Квартира осталась у ее мужа, и дальнейший ход событий мне не известен. Да и надо ли мне знать, только излишне будоражить душу. Что с воза упало, то пропало.
***
Наступил ноябрь тысяча девятьсот сорок пятого года.
Поехала в Симферополь оформлять документы на выезд.
Миша с Лидой меня встретили, помогли все сделать. Вечером побывала с ними в кино. Это были единственные родственники, единственные родные лица на тот момент, и я была им благодарна за теплоту и участие в моей судьбе. Переночевав, отправили обратно.
Дети ждали. Итак, мы были готовы к отъезду. Встречу в Ленинграде нам подготовил муж, найдя там своего земляка по городу Черикову, Райскина Матвея. Мы дали ему телеграмму
Книги и постель отправили багажом. Бетя, Муся, Рива Маркушевич проводили нас на вокзал и усадили в поезд, который шел на Симферополь. Прямого сообщения не было, поезда еще шли плохо. В Симферополе мы высадились и очень долго ждали на перроне с другими реэвакуированными, уезжавшими на свои старые довоенные места жительства. Там, в сутолоке вокзальной, нас нашли Миша с Лидой, принесли нам термос с чаем, ибо дети замерзли.
Ночь мы провели на вокзале. Народу было столько, что, как говорится, негде было яблоку упасть. Никто не знал, когда нас отправят дальше. Миша с Лидой тоже не уходили.
Под утро нас погрузили в эшелон, идущий на Москву. Долго еще стояли. Наконец, поезд тронулся. Прощай, Крым, дорогая Евпатория. Миша с Лидой остались на перроне, провожая нас взглядом.
Итак, опять мы расстались, опять в пути.
Глава 36. На Москву. 1945 год
В дороге люди быстро знакомятся, и мы немного притерпелись к обстановке. Не помню уже, сколько были в дороге и чем питались. Видимо, выкупили по карточкам хлеб на несколько дней и на работе чем-то помогли. Мы столько лет погружались и выгружались за эти пять лет, что все перепуталось в голове.
Хорошо помню, когда поезд прибыл в Москву.
Была пересадка, и ждать надо было сутки. Решили разыскать жену Миши Мазо (друга детства). Ее адрес дала Бетя, это была ее невестка Маня, девушка, с которой Миша нас знакомил, собираясь жениться. Сдали вещи в камеру хранения и отправились.
Хотелось узнать судьбу моих друзей детства. От Гриши Моняка было одно письмо, где он писал, что отбыл на курсы снайперов, и больше – ни слуху, ни духу. В конверте была фотография. Миша Мазо тоже писал и фото прислал; мы знали, что он танкист.
Спустилась в метро. Для нас это было в диковинку.
Вот и цель нашего путешествия. Дома никого не оказалось. Соседи посоветовали идти в детский садик, где работала Маня, и при ней находились две ее девочки. Встретились довольно сдержанно: было не до гостей, хотя война и закончилась. Все же Маня отпросилась с работы, даже напоила нас чаем. Она поведала мне о своих горестях. Миша пал смертью храбрых, на него пришла похоронная.
С фотографии смотрит на меня мой давний друг в форме танкиста с грустными прощальными глазами. Не дожил до победы. Дети остались на попечении одной мамы-детдомовки. Маня очень обижалась на его родных, что не помогают. Проездом в Евпаторию Бетя побывала у нее и успела поссориться; это у нее выходило всегда по любому пустяку. Вместо помощи и взаимного участия у них произошел разрыв. Я не удивилась этому, зная Бетин характер.
Сама Маня воспитывалась в детском доме и родных не имела. Это еще больше обязывало Бетю быть к семье брата родственней.
Гриша Моняк тоже не дожил до победы. После школы снайперов он отправился на фронт. Стрелял он хорошо, еще будучи в Евпаторийском кружке Осовиахима (?). Это не помогло ему остаться в живых. Погиб от пули такого же снайпера, как и он сам.
У Гриши были две девочки. Что с ними сталось, я так и не узнала. С его матерью я встречалась в Евпатории. Совсем старенькая стала, ничего не знала о судьбе сына. Вернувшись из эвакуации, поселилась с больной дочерью в уцелевшей комнате разрушенного дома.
Посидели с Маней, помолчали, погоревали и расстались навсегда. Больше я о ней ничего не знаю. Жизнь закрутилась, и не до писем было.
Вернулась с детьми на вокзал, и вскоре поезд мчал нас к Ленинграду.
Часть пятая. Ленинград послевоенный. 1946–1982 годы
Глава 1. Ленинград послевоенный. О Мотике Райскине
Декабрь тысяча девятьсот сорок пятого года.
Поезд прибыл вечером на Московский вокзал. Было холодно, шел снег. На душе тоскливо!
Родителей мужа уже не было, голод поглотил их, и нас уже никто не ждал в Ленинграде. Предстояло много трудностей, это я отлично понимала.
Встретил нас Мотик Райскин по просьбе мужа. Были они друзьями детства. Мотик пришел с женой Розой. Ее я не знала. Познакомились они в госпитале и соединили свои судьбы. Мотик был ранен, долго лежал в госпитале. Рука была изуродована и плохо сгибалась.
До войны мы часто бывали у Мотика на Надеждинской улице. Семья была большая и очень гостеприимная. Мать – маленькая седая добрая, приветливая женщина, хорошая хозяйка. На столе всегда была рыба в разных вариантах: фаршированная, заливная, жареная, в томатном соусе и других видах. Было у них четыре сына и одна дочь Симочка. Все парни воевали: один (Абрам) погиб, остальные вернулись, но мать не застала – умерла в блокаду от голода. Сохранилась фотография: мы у них в гостях за накрытым столом. Все на еврейский лад.
Глава 2. Первые трудные шаги
Несмотря на житейские трудности, семья Райскиных встретила нас довольно дружелюбно.
В тот же вечер, собрав кое-какое бельишко, мы пошли в баню отмывать дорожную грязь. Бани работали плохо, и их было мало. Пошли на Пушкинскую. Долго стояли в очереди. Дети истомились, замерзли, в особенности Элочка. К сожалению, это надо было сделать немедленно, мы были в чужом доме.
До сих пор помню эту «баню». С трудом добрались поздно вечером к Райскиным. Сын нес сестру на загривке. Боялась, чтобы не простудились, но все обошлось благополучно.
Первый день мы были на положении гостей, отдыхали. Потом, оставив у них детей, отправилась с Матвеем на нашу довоенную квартиру. Я торопилась. Не хотела стеснять людей и есть их хлеб. Надо было обосновываться. Отправляться восвояси, как бы это тяжело не было.
Глава 3. Своя обитель
Домой шли пешком. Кругом развалины, следы бомбежек и пожаров. Улиц было не узнать, до чего они были завалены грудами камней, кирпичей. Кругом работали люди, очищая развалины, убирая мусор. Работали пленные немцы, отстраивали большой дом на углу Лиговского проспекта и Разъезжей улицы.
С трепетом подошла к своему дому на Звенигородской улице, дом 24–4. Было холодно – декабрь месяц – а на ногах босоножки. Поднялась по нашей черной лестнице с разрушенными ступеньками и поломанными перилами. Открыла дверь, почти не запертую, и переступила порог. Остолбенела. Описать мои чувства не могу. Трудно! Комната выглядела, как после погрома. Кругом крысиный помет. За что ни возьмись – всюду следы крысиных зубов. Потолки черные от копоти. В углу – маленькая железная печурка, труба которой вставлена в печную дверцу. Этим пользовались несчастные блокадники. Стекол не было, окна забиты фанерой. Шкаф пустой, только грязные тряпки, погрызенные крысами, - они тоже голодали.
Все было перерыто и взято все мало-мальски стояще. Швейной машины, патефона, конечно, не нашла. Кое-какая посуда в буфете от бывших сервизов. Уцелели подушки, оттоманка, шкаф, кровать. На деревянных вещах тоже следы крысиных зубов.
Туалет не работал: воды не было. Газ бездействовал.
Стояла и думала, с чего начать и как тут жить с детьми без дров, без воды и всего того, что нужно для жизни с ними в зимнее время.
Но, как говорится, глаза страшатся – руки делают. Постепенно навела маломальский порядок. Руки опухли от грязи и холодной воды, которую носила из дворовой прачечной. Вымыла полы, спалила весь этот грязный хлам, разобрала все, что можно было использовать, постирать. Нашла мужнины туфли и надела. Все же было теплее босоножек. Пыталась отмыть потолки от копоти, но из этой затеи ничего не вышло. Слишком высоки были потолки. Подвернулся стекольщик – старик-еврей. Он вставил нам стекла. Отдала я ему еврейские книги – молитвенники вместе с таласом. Все спалили родители, а эти священные книги не посмели – парадокс. Обещал старик снести все в синагогу.
С переездом долго не тянули. Привела детей в свою «обитель». Надо было приспосабливаться, хотя готовить было не на чем, хлеб приходилось покупать с рук, карточек пока не было.
Глава 4. Родственники
У мужа были две двоюродных сестры и брат со стороны отца, Басины. До войны мы бывали в гостях у старшей сестры – учительницы, с нею жили и старики. Дом был, как говорится, «полная чаша». Все в доме было аккуратно, на своих местах.
Вторая сестра, Соня, тоже учительница, жила на Петроградской стороне. Муж ее Виктор собирал марки. Коллекция была большая: марки, книги и разные сувениры; можно было часами рассматривать.
Брат был молод, попал в скверную историю, связанную с ежовщиной и ни за что был выслан с семьей далеко от дома, потом воевал, был реабилитирован. Война все списала. Итак, после войны все вернулись живые, стали ветеранами Отечественной войны, как и мой муж.
Будучи в Ленинграде, муж остановился у старшей сестры, Ривы Басиной. Стариков уже не было, до победы не дожили. Оставил он у них два чемодана с сухарями и еще кое-какими личными вещами (об этом он мне писал). Пошли мы с Мотиком на Мытницкую, где они жили, за чемоданами. Сухари нам были весьма кстати. Какова же была моя радость. Когда я нашла там солдатские сапоги моего размера. Тут же влезла в них и почувствовала себя неуязвимой для сырой ленинградской погоды. Дети ходили в самодельных строченных валенках с калошами.
Глава 5. Неудачная вылазка
В квартире у нас было сыро, холодно, голодно и неуютно. В один из дней, когда мерзнут дети и их лучше держать в постели под одеялом, не раз вспомнишь солнечную Евпаторию.
Решили как-то поехать к родственникам – к Ревекке Исааковне Басиной. Собрались. Туда доехали благополучно трамваем. Приняли нас доброжелательно. Дети поели, обогрелись.
У них все уже было налажено. Взрослые работали, дети, Лева и Вова, учились. Квартира была почти нормальной, хотя еще не ремонтировалась. После этих пяти страшных лет она сохранилась в удовлетворительном состоянии.
Снабдили нас картошкой и дали два полена для печурки. Вот, думали, благодать: затопим печурку, которой пользовались родители в дни блокады, будем греться, пока сварится картошка.
Тронулись в обратный путь под вечер. В одной руке – сетка с картошкой, под мышкой – сумочка, другой рукой держу дочь за руку. Сын перекинул через плечо два связанных полена.
Подошел трамвай, набитый людьми до отказа. Кое-как поднялись на ступеньку вагона, но в это время упала сумочка, где были документы, аттестат, деньги и тому подобное. Я соскочила с трамвая и бросилась за ней. Трамвай тронулся, и я упала вместе с картошкой на дорогу. Сын выпрыгнул за мной на ходу из трамвая. Дочь подняла такой крик, что трамвай остановили. Люди помогли мне встать и забраться обратно в вагон, а сын не успел, его подхватили вместе с палками и затащили на ходу. Наволновались, наплакались. Болела ушибленная голова, дрожали и ныли руки и ноги.
Кое-как добралась домой с испуганными детьми. Тут уж было не до печки и не до картошки. Забрались втроем в одну кровать, забылись тяжелым сном под всеми одеялами, которые были в доме. Утро вечера мудренее.
Настало утро, стали рубить эти палки, но они не хотели гореть. Дым валил в комнату под потолок, потому-то так все было закопчено в квартире. Мучались так бедные старики в блокаду, задыхаясь от дыма, холода и голода.
Глава 6. Добрый ангел. 1945 год
Страшно было жить в таких условиях. Ни газа, ни воды, ни керосина. Туалет не работал. Пользовались ведром, а потом носили на улицу в люк.
Лева все же пошел в школу, в пятый класс. Элочку отвели во второй. Девочка была слабенькая и все время простужалась. Оставляла ее на продленный день: там было теплее.
На наше счастье явился к нам наш «ангел-спаситель», Женя Цирульников. Он уже демобилизовался и работал в хозяйственном магазине. Он пришел в ужас от нашего житья-бытья и велел придти к нему за керосином. Керосин тоже был по карточкам. Я нашла нашу старую довоенную керосинку на антресолях. Все ее жалела выкинуть, а тут пригодилась. Поставили на детские саночки две банки, которые тоже были на антресолях и привезли керосин.
Свет не без добрых людей, как говорит пословица. У нас появился огонь-Прометей. Поставили керосинку в комнате. Стало теплее, веселее. Можно было сварить суп, чай и даже затеять постирушку. Жизнь немного наладилась.
Начала искать работу. Нужны были карточки на хлеб и продукты, а для этого надо было работать.
Глава 7. Новый год
Был канун 1946 года. То и дело встречались люди с ёлками, готовились к встрече Нового года. Жизнь продолжалась!
Мы даже не помышляли о елке. До войны мы ее украшали ежегодно, и на антресолях сохранились в запыленных коробках елочные игрушки.
Настроение у меня было пакостное: отца все еще не было, дров не было; мы были одни в отдельной квартире. Зайти было некуда – отвести душу. Всюду чужие! Холодно! И вдруг я повстречала довоенную знакомую, с которой мы встречались у наших друзей, Старобинских, Берту (так ее звали). Берта там часто бывала с маленькой дочуркой Полей и мужем Гришей. До чего же она была красива и проста! Я всегда восхищалась ее миловидностью и пикантностью. Теперь у нее появилась седина, но это нисколько не портило ее внешности. Муж Бертин погиб в первые дни войны, и она снова вышла замуж.
Встреча была очень бурной. Мы просто не могли придти в себя от восторга, что живы, что пережили это страшное время, что снова встретились.
Затащила она меня к себе, познакомила с нынешним мужем Гольдманом Абрамом, зубным техником. У него тоже была дочь, ровесница Поли. Мать умерла. Жили вчетвером. Бетя женщина была добрая и относилась к обеим девочкам одинаково. Это было ей не так легко, как я потом узнала. Не так легко воспитывать два разных характера, тем более, если девочка помнит свою родную мать.
Жили они совсем не далеко от нас, что меня очень радовало, но жилье было временное. Пока они жили около нас, мы туда часто заходили. Случайно у них оказалась лишняя елочка, и мне ее отдали. Ну и радости было, когда я ее притащила в наше убогое жилище! Стащили с антресолей игрушки, стали украшать; нашлись и лампочки. Забыли о холоде и до двенадцати часов не спали. Встретили Новый год втроем, без папки. Всю ночь горела керосинка.
В дальнейшем Гольдман (муж Бети) привел в порядок мои зубы, поставил мостики. За время войны зубы совсем пришли в негодность, хотя, будучи в Евпатории, я пыталась их лечить, посещая стоматологический кабинет.
Глава 8. «Попытка – не пытка»
Наступил и ушел своей дорогой в небытие 1946 год. У нас ничего не менялось. Все еще было трудно с обогревом, все еще носили воду из прачечной, где был кран с чистой водой, и в люк выносили грязную воду. Несмотря на все эти неурядицы. Надо было пытаться найти подходящую работу, чтобы «волк был сыт, и коза цела». Я все оттягивала: было страшно оставлять детей в таких условиях.
Мне нужна была работа поближе к дому, чтобы можно было в любую минуту навестить детей. Договорилась в домохозяйстве, там нужен был счетовод. Это вполне соответствовало моим потребностям.
Пришлось посетить бюро по распределению рабочей силы. В бюро с моей просьбой не посчитались, дали направление на 16-й хлебозавод, который находился на Лиговском проспекте. Это было н так далеко от Звенигородской, на которой мы жили.
Завод есть завод. От гудка до гудка, с шести часов утра. А дети???
Завод был во время войны законсервирован, и его надо было пустить в ход: чистить, мыть. Требовались рабочие, счетные работники до пуска завода должны были принимать участие в общем деле.
Уныло пришла домой, ничего не решив пока.
Глава 9. Гостья. 1946 год
Стук в дверь вывел меня из задумчивости (звонок не работал). Пришла девушка в военной форме с приветом от отца и посылочку принесла; в ней были сухари, сахар, сгущенка. Девушку уже демобилизовали, и она ехала домой через Ленинград. Зашла к нам по просьбе мужа. Служили они вместе в санитарном поезде.
Мы были рады гостье. Пили чай с гостинцами и слушали рассказы о войне и ее участие в ней, о раненых, которых она с подругами спасала и увозила в тыл. Еще несколько раз она заходила к нам, а потом уехала туда, где жили ее родители, о которых она ничего не знала.
Глава 10. Хлебозавод № 16
Делать было нечего, надо было приступать к работе. Нужны были продуктовые карточки. Жить было трудно. Решила и пошла!
Работа была очень трудная, а главное, одолевали домашние заботы. Домашнее неустройство меня волновало. Дочь все время болела и пропускала уроки. Дома было холодно, я оставляла ее одетую в кровати. Сын убегал в школу, а дочь оставалась одна. Сердце разрывалось от беспокойства за девочку.
За стенкой в бывшей нашей коммунальной квартире жила дворник Анна Кузьминична (в квартире Сергеевых). Взяла у нее кота и громкоговоритель, черную тарелку (нашего громкоговорителя дома не оказалось), чтобы дочери было не так скучно. Сама уходила чуть свет на работу. Было намного спокойней, когда я до работы отводила дочь в школу и оставляла до начала уроков на попечении уборщицы.
Трудное было время! Прошло много лет, но всего этого не забыть. Даже теперь, много лет спустя при воспоминании поднимается горечь и ноет сердце.
Завод восстанавливался! Надо было мыть окна, двери, чистить котлы, мыть полы, стены, лестницы и каждый уголок здания. Оформили меня бухгалтером, и пока завод не работал, делала все вместе со всеми. Часто в снегопад выходили чистить снег на Лиговском проспекте. После работы мчалась в школу в группу продленного дня - за дочкой. Сын уже был дома, ждал супа.
Глава 11. Жиличка. 1946 год
На заводе работала молодая девчонка Наташа. Жила она за городом. Зим была снежная, поезда ходили плохо, видимо, снегопады были тому причиной. Трудно ей было поспевать к звонку на завод. Я предложила ей пожить у нас, пока стоит холод, подумала, что будет легче управляться с домашними делами: поможет, да и веселее будет.
Несколько дней она пожила с нами; помогала отводить Элочку в школу, выносить в люк помои и приносить чистую воду. Но это продолжалось недолго: Наташа быстро сбежала, не выдержала нашего холода и режима жизни. Дома, наверное, было легче, теплее, хотя и далеко; да и мать рядом.
Опять мы остались одни, отец все еще не появлялся. До чего же было тяжело ждать и жить!
Глава 12. Тревоги… Тревоги… 1946 год
Дочь опять не пошла в школу, опять чувствовала себя плохо; болели ручки, была вялая, скучная. У нее была небольшая температура. Оставила ее в кровати в обществе кота Васьки, закутала, дала книги. Керосинку не зажигала, боялась: долго ли до беды? Кот сидел, мурлыкал. Хрипело радио. Из окон дуло, хотя стекла были вставлены и рамы по возможности заделаны.
Сын убежал в школу.
Ушла на завод с тяжелым сердцем. До обеда мыли полы, уже не в первый раз; без конца их намывали до блеска. Завод готовили к пуску. С обеда пошли убирать снег на заводском дворе. Вот тут я не выдержала и тайком убежала домой посмотреть на ребенка. Открыла ключом дверь. Какова же была моя боль, когда я застала ее плачущей, на полу в одних чулках у холодной керосинки, с лужей слез и соплей вокруг нее. Сколько же она простояла на холодном полу, что наплакала целую лужу? Чувствовало мое сердце! Схватила ее на руки, пытаясь согреть, плача вместе с ней горькими слезами.
Глава 13. Первые ленинградские радости. 1946 год
Город налаживал свою жизнь. Восстанавливали то, что разрушила эта безумная, страшная война. Дом за домом приходили в себя вместе с их жильцами. Наконец взялись и за наш дом. Круглые сутки работали водопроводчики. Отогрев трубы, пустили наконец воду, наладили туалет, подключили газ. Радости не было границ. Газовые конфорки пылали по целым дням. В квартире стало уютнее, хотя закопченные стены и потолки «наводили тень на белый день». Пробовала оттирать сажу, но из этого ничего не получалось хорошего. Оставалось ждать лучших времен. Главное, что мы надеялись на лучшее.
Отца все еще не было. Все самое трудное время мы были одни. Он был жив, и на том спасибо. Оставалось ждать, хотя терпение было на исходе.
Вернулся он только в апреле тысяча девятьсот сорок шестого года, когда все переболело, перестрадало, когда все житейские невзгоды были почти позади.
Глава 14. Вернулся. 1946 год
Встреча получилась какой-то будничной. Поздоровались, сын повис на шее, а дочь застеснялась и вовсе не подошла. Элочка плохо его помнила, мала была, когда расстались.
Наконец, половину житейских забот он принял на себя. Появились дрова, жарко запылала печь. Можно было, как до войны, погреться у открытой дверки, а после закрытия трубы прислониться спиной к теплой печке. Привезенные дрова распилили и сложили в сарае. Пришли маляры, побелили и оклеили квартиру.
Муж пошел на работу в торговую сеть (в хозяйственный магазин) После военной жизни на колесах ему трудно было привыкать к гражданской жизни: трудно было приспособиться к хлебному и продуктовому пайку, пить чай вприкуску, - а сахар давали только детям и то ограниченно. В армии было, видимо, сытнее, тем боле в санитарном поезде, где он служил в последнее время.
Глава 15. Еще одна радость
Придя как обычно на завод, я почувствовала запах свежего хлеба. Когда вернулся муж, меня отпустили на три дня, и за это время пустили завод. Меня встретили свежим батоном, который я тут же съела (теперь уже не верится, что можно съесть сразу целый батон и даже не один).
После запуска завода я работала в плановом отделе. Моя обязанность была учитывать припек хлеба, отражая результаты на доске соревнований по бригадам и сведения эти передавать по телефону в трест. Выходных я не имела. В воскресенье приходила на несколько часов высчитывать припек и передавать сводки в вышестоящие организации. За работу в выходные дни мне давали возможность вынести по пропуску пару батонов. Это было большое подспорье для семьи.
Завод, как умытый, блестел. В основном работали женщины, проделав колоссальную работу по пуску после консервации завода. Теперь все были в белых накрахмаленных халатах и шапочках; даже мы, счетные работники, ходили по всем цехам в белом за сведениями.
Любовалась слаженностью работы людей, печей, автоматов. Я смотрела, как в больших котлах выстаивается тесто и автоматы лопастями, как большими руками, месят его. Другие автоматы тесто делят по весу, и потом все идет в печь.
Наконец мы почувствовали себя сытыми, весь рабочий день жевали вперемешку с работой свежую булку с чаем и без него. Однажды мне дали пропуск для мужа; принесли из цеха булки, и он тоже наелся и даже пообедал в столовой. Выносить ничего было нельзя. Люди умудрялись выносить булку, у всех были семьи, дети. Если в проходной обнаруживали – увольняли и отдавали под суд. В стенах завода можно было кушать. В то время это было большим преимуществом. Игра стоила свеч.
Глава 16. Опять невзгоды
Настроение испортилось. Опять заболела Элочка. «Ревматическая атака». Это было ужасно. Болезнь продолжительная, с осложнениями на сердце, а лечить этот орган совсем не умели. Без конца давали аспирин, и я не помню, чтобы давали что-нибудь еще кроме «постельного режима». На этот раз положили в больницу. Я надеялась, что в лечебном заведении ее подлечат понадежней. Лежала Элочка в Педиатрическом институте на Выборгской стороне. Добираться туда было далеко, а ездить надо было ежедневно, кормить, ухаживать. Болели у не ручки, а сердце было все хуже и хуже. «Ревматизм разрушает сердце», - говорили врачи. От этих слов и мое сердце ныло от тревоги за девочку.
Было трудно управляться с заводскими строгостями, домашними заботами и уходом за ребенком. Я выбилась из сил, при этом сама была не совсем здорова, а ходить по врачам не имела времени. Сын тоже требовал внимания.
В это время наконец-то отменили карточную систему. Это была большая радость. Решила уйти с работы по семейным обстоятельствам, и пока дочь будет в больнице, не работать, ухаживать за ней и сыну уделять внимание.
Глава 17. Мои размышления о жизни, о сыне. 1947
«Жизнь прожить – не поле перейти!» За военное время я так свыклась с невзгодами, что, когда выпадало на мою долю хорошее, я не воспринимала это всерьез. Когда было трудно, я успокаивала себя: «Лишь бы хуже н было». Разговаривая с незнакомыми людьми, всегда слышу жалобы, и никто не говорит, что все отлично. У каждого что-нибудь н так, как ему хотелось бы. Чего только не услышишь в очередях или на скамейке в саду. Нет абсолютно, безупречно счастливых, у которых все «без сучка, без задоринки».
Жизнь – это сложная штука. Зачем все это? Продлить жизнь, как я понимаю, или оставить после себя следы на Земле? Но это дается не многим. Все это получается дорогой ценой, с большими трудностями. Говорят: «В муках человек рождается, живет, нелегко, в муках умирает». Легко ничто не дается. Все, конечно, от характера. Иные как-то легко живут, а я все воспринимала и воспринимаю остро, вечно душевно страдаю, даже если кто-то что-то мне не так сказал.
А с другой стороны поглядеть: дожили до победы, муж вернулся живой и даже невредимый, квартира осталась за нами цела. Не у всех это получилось без хлопот и нервов.
Вот родители погибли, его и мои, и мы не знаем, где их могилы; погибли мои сестры – молодые девушки, у которых все было впереди: жизнь, надежды, любовь, семья и дети, любимая работа. Чудом мы остались живы, благодаря отцу моему, который настаивал на эвакуации меня с детьми, хотя знал, что нам будет нелегко. Могло получиться иначе. Могли разделить участь родителей, сестер и всех евреев.
Так в бессонные ночи я рассуждала сама с собой, «раскладывала все по полочкам»: что хорошо, а где плохо, в какой момент я не уберегла ребенка, и кто знает, чем все это кончится. В войну я берегла по мере возможностей своих чад, боялась отлучиться от них даже на короткое время. Мы были одни в этом большом тревожном мире, где «человек человеку враг», и надеяться было не на кого.
Элочку немного подлечили. Дело шло к лету, и надо было вывозить детей на природу.
До сих пор мучает меня то, что упустила Левин талант к музыке. Об этом думать надо было раньше, с трёх – четырёх лет, но была Война. «Быть бы живым!» Когда приехали из эвакуации, и время было уже упущено, и обстоятельства не позволили. Впоследствии купили инструмент, но это уже ничего не дало, хотя он ходил на уроки. Теперь меня обвиняют, что я не сумела настоять, заставить. Бог свидетель, как это было трудно сделать, имея сыночка с таким упрямым и ленивым характером. Слух у него был отличный, он сочинял музыку к песням, потом остыл и перестал этим заниматься, а после женитьбы все пошло на убыль, и друзья разбежались.
Я все время виню себя! А где же был мой муж?
Он был равнодушен, хотя сам имел отличный слух и играл на гитаре, мандолине по слуху. После войны это тоже ушло в прошлое.
Молодость моего сына была заполнена событиями: у него было много друзей, он участвовал в самодеятельности при Доме культуры работников пищевой промышленности, и это у него здорово получалось. Роли были солидные, и руководитель был Соколов (артист со званием).
Глава 18. Вырица. 1947 год
Впервые после войны мы занялись простыми житейскими мирными делами: поехали с детьми к двоюродному брату мужа Арону в Вырицу. Поезда шли только до первой платформы; рельсы до третьей платформы были взорваны то ли немцами, то ли партизанами, и от первой платформы до третьей надо было идти пешком.
Вырица была оккупирована. У родителей жены брата – Нади в Вырице до войны был большой дом. Фашисты его взорвали, а обитателей увезли вместе со всем еврейским населением поселка и уничтожили. Осталась маленькая времянка, в которой мы и поселились вместе с Надеждой Львовной и ее детьми, Валей и Семой. Муж остался домовничать и работать.
Тепло набирало силу. Все зеленело, звенело и пело. Были белые ночи, и это было чудесно. Ходили за грибами, купались в реке Оредежи. Варили кашу, свекольник, картошку с грибами. Огород был засеян.
Тут и там были следы развалин от бомбежек. Домики были далеко друг от друга, людей было мало, и казалось, что мы совсем одни в лесу. Поздно засиживались, рассказывая друг другу, что пришлось пережить за время войны. На долю Нади выпало много того, что не опишешь простыми словами, это другая повесть. Чего только не выносила женщина ради детей и близких во время войны, и откуда брались силы и резервы терпения?
Мы были довольны отдыхом, дети были счастливы.
Глава 19. Воры. 1947 год
Долго отдыхать не пришлось. В ленинградскую квартиру забрались воры, сломали замок, испортили дверь и забрали все то немногое, что с большим трудом удалось приобрести по талонам и промтоварным книжкам (туфли, платье, детскую одежду, одеяло). Вытащили даже облигации. Пришлось отправляться домой.
Милиция, собаки, - все было напрасно, ничего не нашли, хотя мы были уверены, что воры были в нашем доме. «Не пойман – не вор». Обратно на дачу не поехали, настроение было испорчено. Еще раз пытались прибраться в нашей квартире. У нас забрали бритву и еще какую-то мелочь. Мы грешили на сына дворничихи. Он всегда одалживал бритву, а когда она исчезла, перестал за ней приходить. Пьяница был.
Такое было неудачное послевоенное начало нашей жизни в Ленинграде.
Глава 20. Возвращение Кати. 1947 год
Катя вернулась в Ленинград после эвакуации и долгих скитаний на чужбине почти в 1947 году и не одна, а с трехлетней дочкой Мирой. Пришла к нам с ребенком на руках. С человеком, с которым она сошлась в эвакуации, у нее жизнь не сложилась, и после победы он уехал на родину к своей прежней семье. Катя с ребенком осталась одна. И вот она тут.
Комната была занята, и за нее надо было воевать. Одна сестра с мужем обосновались в Москве, вторая – в Кисловодске. Жить Кате, пока комнату не освободят, было негде, и они вдвоем с дочерью шесть месяцев жили у нас. Или мы дружно. Элочка называла ее «второй мамой». Ребенок у не был спокойный и нетребовательный.
Однажды Лева, придя после школы домой, поднял такой рев, что все мы сбежались. Оказалось, Мира разворошила его коллекцию марок. Все было выпотрошено и валялось на полу. Еле-еле успокоили мальчишку, так он расстраивался и все пытался поколотить девочку. В конце концов, марки собрали и мир был восстановлен.
Комнату Катя отвоевала через суд и вскорости уехала восвояси, вышла замуж и зажила своей жизнью. Ходили друг к другу, на первых порах помогали ей. Мы навечно остались своими, близкими людьми, и ближе Кати с Мирой у нас никого не было.
Глава 21. 1947–1948 годы. Холодная война
В мире было весьма неспокойно, хотя война закончилась победой и была поставлена точка. Все же газеты шумели о холодной войне. Враги не унимались, хотя в конце войны и открыли второй фронт. Американцы были себе на уме, воевали в Корее, напали на Вьетнам и все время угрожали атомными бомбами, которые уже испробовали в Японии, погубив сотни тысяч людей.
Несмотря ни на что, восстановление шло полным ходом. Ленинград «поправлялся» после тяжелой разрушительной болезни, хорошел. Элочку удалось отправить в пионерский лагерь во Всеволожской. Там жила семья родственников Давида, Гасиных... Снимали они там летнюю дачу, обещали присмотреть за Элочкой, было у них два сына: Лева и Вова. По целым дням гоняли они старый довоенный велосипед. Там, во Всеволожской, мы облюбовали дачу для следующего года.
Стремительно летело время, пять лет мы жили во Всеволожской на разных дачах. Сын гонял с ребятами в футбол, купался в речке, читал, загорал.
Элочка была хрупкой, болезненной девочкой. Летом на даче она чувствовала себя лучше, зимой болела, простужалась, пропускала уроки и часто попадала на больничную койку. Прошли 1947–1948 годы.
Глава 22. Лева. 1949 год. Мои невзгоды
Шли годы: 1947, 1948… В 1949 году Лева закончил семь классов и поступил в химико-технологический техникум имени Д. И. Менделеева. Был он парнишка общительный, веселый, любил книги и не пропускал ни одной новинки. Как водится. Перед зачетами сидел допоздна над чертежами, и все - в последнюю минуту, что меня всегда раздражало и возмущало.
Примерно в это время (тысяча девятьсот пятьдесят первый – пятьдесят шестой год) я попала на больничную койку: на груди образовалось затвердение. Тревог было много. Слава Богу, опухоль была доброкачественной. Через несколько лет снова повторилась та же история. Бог миловал и охранил меня от напасти. Вырезали кисту и отправили с Богом.
Глава 23. Бетя. 1951 год
Внезапно приехала Бетя Мазо из Кутаиси, где жила с сыном и родителями. Муж остался в Евпатории в комнате, которую я им оставила. Бетя страдала холециститом и решила тут полечиться. Пожила несколько дней на даче, а потом ей удалось лечь в Военно-медицинскую академию, где ей предложили операцию по удалению желчного пузыря. Не согласилась и уехала. Мать разбил паралич, и за ней требовался уход. Мне было ее жаль, и я всеми силами старалась ей помочь. Потом я поняла: много раз сделай людям хорошо, один раз не угоди, и останешься плохой. Впоследствии так и получилось. Характер у Бети был отвратительный, злопамятный.
Глава 24. Мария Ивановна Ретюнская. 1951 год
Зимой я работала в домохозяйстве. Летом за меня работала главный бухгалтер Мария Ивановна, а я была с детьми на даче. Это устраивало и меня, и ее. Она нуждалась, и моя зарплата была Марии Ивановне нее лишней.
Стоит написать о Марии Ивановне несколько слов. Это была милая женщина, и всегда шла мне навстречу. Работали мы в домохозяйстве вдвоем. Было у нее трое детей, муж страдал запоем, и от этого ее жизнь была сплошным адом. Не успеет она его одеть, как он снова все пропивал, наделав кучу долгов. В конце концов он повесился в комнате на крючке, где висела картина, и этим избавил ее и себя от мук ежедневных.
Теперь она уже немолода, но всегда бодра, весела и всем довольна. Дети вышли в люди: дочь врач, сын инженер, а третий, к сожалению, пошел по стопам отца, стал алкоголиком в полном смысле этого слова, и опять мать страдала, переживая за свое чадо. Впоследствии средний сын, инженер, заболел и умер, остались жена и дочь. Опять горе, треволнения, но она стойко переносила все трудности, выпавшие ей на долю. Сейчас живет с дочерью Аидой, часто звонит. Старость у нее неплохая. Дочь очень старательно ухаживает за ней, благо зять неплохой.
Р.S.: Умерла Мария Ивановна в 1995 году. Долго лежала, тяжелая была смерть. Сломала ногу, ходить не могла, так и умерла, изрядно намучив дочь.
Глава 25. Коварный 1952 год
Зимой Элочка снова попала в больницу. Ежедневно все бросала и бежала в больницу, не зная, жива ли? В палате оставалась до поздней ночи. Работала за меня Мария Ивановна. Однажды, вызвав меня в кабинет, врач сказал: «Надежды нет. Не жилец она у вас». Было ей пятнадцать лет. Как тут сердцу не разорваться? Душили слезы, а ей нельзя было показывать мои тревоги.
Весной забрали домой, сняли дачу в Ольгино – поближе к заливу. Обратно с трудом добрались. Не буду описывать ее страдания, физические и моральные, из-за того, что она не могла быть как все ее сверстницы. Не могла с ними гулять, бегать, общаться (сердце не давало). Элочка страдала от своей беспомощности. Вызывали гомеопата, думали: успокоит, даст что-нибудь, что вселит надежду в юную душу. Доктор оказался черствым и вместо спокойствия внес тревогу, сказав при ней: «Зачем вызывали? Я тут помочь ничем не могу». После ухода врача Элочка плакала навзрыд, причитывая: «Как мне жить?»
Ольгино была последняя для нее дача. Осенью поехали обратно в город. Дома сидеть не хотела, пошла в город. «Пока жива, буду учиться», - говорила она. Это продолжалось недолго. Снова слегла и больше не встала. Купили ей новую форму, но одеть не пришлось. «Похороните меня в этой форме», - сказала она.

Не хотелось верить, что ее не станет! Но все же это случилось. Отправили в педиатрический институт, хотя надежды не было никакой. Там стало совсем плохо, и дочку перевезли в Институт скорой помощи. Все напрасно. Врачи ничего сделать не могли, сплошная беспомощность. Как все описать, что пережито и выстрадано от беспомощности своей и врачебной? Не делали тогда операций на сердце. Теперь, может быть, спасли бы, а тогда только руками разводили, дескать: «Не боги мы».
Умерла двадцать девятого ноября тысяча девятьсот пятьдесят второго года.
 Фото Gravlov.com
Фото Gravlov.com
Глава 26. В последний путь. 29. 11. 1952
Проводить Элочку в последний путь пришел весь класс с учительницей. Принесли венки, цветы. Выступали, что-то говорили. Хвалили, ставили в пример: за прилежание, поведение, настойчивость, трудолюбие.
Думы меня одолевали, Я не могла спать, дышать. В глазах и ушах стояли эти предсмертные часы моей девочки. Я перебирала в памяти всю ее короткую жизнь, хотела вспомнить тот роковой час, минуту, когда все началось, когда я ее не уберегла. Могла ли я это предотвратить? Война кончилась, она выжила и теперь, когда все сравнительно наладилось, жизнь стала нормальной, - Элочке пришлось с ней расстаться, а она ее так любила. Несправедливо…
Мы не участвовали непосредственно в войне, но мы пережили все трудности военного времени. Если бы это случилось во время войны, было бы не так обидно. Много людей погибло в то кровавое страшное время. Но теперь, в тысяча девятьсот пятьдесят втором году, семь лет спустя, можно было сойти с ума от горя и дум, преследовавших меня. Переломил мои тяжелые размышления приход детей. Отвлекло. Стала по ночам перебирать уже эти события, которые вызывали умиление.
Похоронили на еврейском кладбище. Была на ней новая школьная форма (как хотела) с белым передником и пионерский галстук. Так и осталась у меня в глазах на всю оставшуюся жизнь.
Прошло много лет после этого дня, но никогда не изгладится из памяти это время. Все свежо, больно и обидно. Дочь под старость очень мне нужна. Ни муж, ни сын видимо так остро не воспринимали, а может быть, я просто была занята собой, своими чувствами и ничего не замечала вокруг.
Все годы ходим с отцом на кладбище. Ухаживаем за могилой, красим ограду, сажаем цветы.
Ревекка Рыскина
Ревекка Рыскина
Р.S.: К великому огорчению, сейчас и отец покоится с дочерью вместе, в одной ограде. Умер внезапно двадцать седьмого июня тысяча девятьсот восемьдесят третьего года.
Теперь уже мы с сыном и внучкой ходим ухаживать за могилой, хотя я уже еле хожу, болят ноги и сердце.
(…1952–2002…)
С нами Бог.
Санкт-Петербург, 2002
 Виктория Рыскина
Виктория Рыскина
В качестве эпилога. Стихотворение Виктории Рыскиной
«Не говори «плохо», проси Б-га, чтоб хуже не было» -
говорил прадед, расстрелянный
на Красной горке 1942 в Евпатории.
Посреди их евпаторийского двора по сей день
– тот самый колодец с непитьевой водой...
Вот он - колодец в милой Евпатории
В нем не испить воды
Мой прадед шил ушанки и картузы тут,
И ждал беды
Он выходил молиться по субботам
И шел просить
Чтоб хуже не было, а лучше не мешало бы
Что говорить…
А время катится, несется и торопится
Темно в глазах
Не высох тот колодец, не испортился
Но пить нельзя
Вода там не живая, не студеная
А в ней слеза
Да мощных вод подземных власть никчемная
Судьба, судьба…
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2