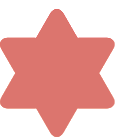05.02.2018
Как ушел из жизни реб Берл Медалье
 Паспортная фотография (увеличена). Б.Л. Медалье задолго до его последних дней. Из личного архива Ильи Дворкина.
Паспортная фотография (увеличена). Б.Л. Медалье задолго до его последних дней. Из личного архива Ильи Дворкина.
Д-р Александр Шейнин, бывший ленинградец, деятель еврейского подполья рассказывает страшную, пронзительную историю о выдающемся прихожанине Синагоги — реб Берле Медалье.
На еврейском участке кладбища Жертв 9 января в Петербурге можно увидеть представительный памятник с достойным текстом на русском и иврите. Как часто такие посмертные знаки вводят в заблуждение, скрывая истинные прижизненные образы ушедших! О, если бы те деньги и заботу, которые вложили доброхоты в этот горделивый и богатый мраморный постамент, можно бы было вернуть несчастному реб Берлу в то далекое тогда...
Хупа в старом мятом костюме
...Я познакомился с реб Берлом в начале 80-х на тогда еще редких подпольных хупах в Ленинграде. Вероятно, он был одним из немногих, если не единственным, кто в те годы соглашался ставить хупы на квартирах у отказников, сионистов и начинавших соблюдать традицию молодых людей. (Уже позже я бывал на хупах, которые организовывали реб Залман Зайчик, реб Авром Медалье). Сказать, что он не боялся, было бы, наверное, не верно. Но он соглашался. Быть может оттого, что в, отличие от других, ему было нечего терять?
Как и другие легендарные старцы ленинградской Синагоги, пережившие и революцию, и войну, и сталинские лагеря, реб Берл нес на себе печать тех страшных времен. Он был молчалив, нетребователен к быту, удивительно скромен и совершенно ничего не рассказывал о себе. Говорили, что его отца-раввина расстреляли в 1938-м, что один из братьев его погиб в лагерях, а другой бежал за границу и там стал известным раввином. Еще один брат реб Берла — Абрам Львович (реб Авром) Медалье, тоже прихожанин нашей синагоги и обладатель раввинской смихи, был по тем временам относительно «благополучен», так как умудрился еще до ареста получить математическое образование, а после ссылки и реабилитации восстановиться на кафедре института, где до пенсии работал старшим преподавателем. Был женат, имел дочь и внуков. А про реб Берла я слышал, что, вернувшись из многолетней ссылки, он не смог смириться с переменами, постигшими за прошедшие годы его семью, и потому всю последующую жизнь коротал один. Во всяком случае, запомнилось мне, что бывшая его жена и дочь жили где-то в Москве и не общались с ним.
Реб Берл на хупы появлялся в старом мятом костюме, в черном галстуке и шляпе, не особо побритый, тихий, молчаливый, всегда печальный, в толстых роговых очках-линзах.
 Слева направо: Гилель, Берл, Хая-Ривка, Зисля, Гинда-Цирля, Гирш и Авром Медалье. 1920-е годы. Из альбома ДИНАСТИЯ МЕДАЛЬЕ. Илья Васильев. Москва 2014
Слева направо: Гилель, Берл, Хая-Ривка, Зисля, Гинда-Цирля, Гирш и Авром Медалье. 1920-е годы. Из альбома ДИНАСТИЯ МЕДАЛЬЕ. Илья Васильев. Москва 2014
«Я не дам себя резать, как огурец!»
Однажды после трапезы-застолья предложили мы отвезти его домой на такси, а он почему-то наотрез отказался, сказав, что поздно, и попросил остаться. При этом он ни за что не согласился улечься на диван или кровать. Выбрал какое-то кресло и в нем так, сидя, и задремал. Все это казалось непонятным. И только спустя годы я стал догадываться, что причиной некоторых странностей были не только несмываемые знаки израненной души, но и реальные обстоятельства: невозможность в столь поздний час проникнуть незамеченным в синагогу, где ему неофициально разрешали оставаться по ночам.
И еще: все сильнее и сильнее давала себя знать его болезнь, вызывавшая не только сильные боли, но и необходимость очень часто посещать соответствующие «удобства». Вероятно, сидячее положение было ему безопаснее. Ведь от операции реб Берл давно и бесповоротно отказался, а когда об этом все же заходила речь, он вспыхивал, сердился и риторически вопрошал: «Я, что, огурец, чтобы меня резать?! Я не дам себя резать, как огурец!!!»
И почему именно огурец?
Обитель реб Берла в Синагоге
Порой я навещал реб Берла в Синагоге.
Однажды я обнаружил на черной лестнице мешок с мусором, приготовленный к выбросу. Из него торчали старые фотографии и пожелтевшие бумаги. В пакете оказались синагогальные записи о трактовке еврейских имен и официальные подтверждения их перевода на русский. Можно представить себе, сколько бесценных документов пропало и было уничтожено тогда — не только сознательно, но и по безразличию и трагическому невежеству...
Небольшая, с высокими потолками, полутемная комната реб Берла имела не жилой, не домашний, скорее, тюремный вид: крашеные масляной краской голые стены, высокие своды потолка, холодное окно, выходящее на серый двор и на ближние ржавые крыши. Из мебели — железная кровать у стены, небольшой деревянный стол да старый скрипящий стул.
Как-то я застал реб Берла за странным занятием, и таким он запомнился мне навсегда: сидящим за столом, а на столе — горки каких-то мельчайших потертых клочков бумаги с написаными на них разноцветными, непонятными каракулями. То ли именами, то ли словами или фразами... Десятки, сотни, а, может, тысячи таких пожелтевших, помутневших, помятых листков покрывали весь стол и даже соседний подоконник! Он перебирал их, перекладывал из стопки в стопку, держа их горсть в одной ладони, а часть в другой, что-то изучал, присматривался разглаживая пальцами и поправляя очки. Губы его шевелились, он что-то беззвучно шептал. Как он разбирался в них, как не путал, как точно знал куда и какую записку переложить и что прошептать?!
Спустя годы и десятилетия, все чаще погружаясь в перелистывания старых блокнотов, писем, фотоальбомов и телефонных книг, вспоминая ушедших, сгинувших, проговаривая их имена, и продолжая с ними нескончаемые беседы, я внезапно с содроганием узнаю в себе жесты и повадки реб Берла. Он, как в зеркале, появляется рядом, и, сидя напротив, тоже листает, бесконечно листает свои нескончаемые обрывки, эти ветхие шпаргалки гаснущей памяти, уже только одному ему ведомых дат и имен.
«Она специально колет меня в самую кость!»
Тем временем болезнь реб Берла прогрессировала. Все реже я его встречал в Синагоге и на подпольных хупах. Когда страдания его стали невыносимы, его отправили в больницу, где впихнули в общий коридор и трижды в день кололи пенициллином. Даже мне, начинающему врачу, не ведавшему истинных возможностей медицины, была ясна полная бессмысленность такого «лечения». Ни банальные лабораторные, ни рентгенологические методы, ни медикаментозные схемы, о которых я слышал в институте, тамошними «лепилами» даже не упоминались.
Но, пожалуй, это даже не главное. Запомнилась обида — оскорбительная, унизительная боль беспомощности и отчаяния. Незабываемых, непрощаемых никогда, особенно если теряешь кого-то очень дорогого, навсегда.
Когда я приехал навестить реб Берла в ту больничку-богадельню, то с трудом нашел его среди десятков таких же, как и он, несчастных стариков и старух, одетых в линялые больничные халаты на завязках, распиханных по палатам, по углам и коридорам, стонущих, кричащих, умирающих, а может быть, уже умерших, затихших в коме или нездоровом последнем сне. Среди капельниц, воткнутых в синюшные руки, среди переполненных , открытых на всеобщее обозрение, или прикрытых промокшей газетой уток и суден, среди снующих посетителей, грохочущих тележек, санитарок со швабрами, напомаженных медичек, неубранных тарелок с остатками гадкой похлебки, среди открытых беззубых ртов, торчащих кривых пальцев, желто-бурых ногтей, среди свисающих на пол серых войлочных одеял я наконец распознал его, реб Берла, вдруг непривычно маленького, без ермолки, свернувшегося по-детски в калачик, стонущего и с закрытыми глазами... Рукой он держался за поясницу. Узнав меня, не переставая стонать и плакать, он причитал о некой медсестре, «специально, всякий раз колющей его в самую кость!».
Я отправился на поиски лечащего врача в надежде, представившись коллегой, выпросить хоть какое-то внимание и снисхождение к нашему больному, хоть грелку на больное место или обезболивающее. Грузная бесформенная тетка, отозвавшаяся на обращение «доктор» и «коллега», услышав мою просьбу о «любимом всеми и уважаемом человеке», по-бычьи выставила шею и, уставившись на меня уничтожающим, полным презрения взглядом, прошипела: «Шо-о?! Уважаемый?! Да маразм у вашего Медалье! Идите себе и не мешайте мне работать!»
Разговор был исчерпан — повторные обращения, а тем более жалобы, могли только ухудшить его ситуацию в больнице. И я позорно ретировался. А через пару дней реб Берла выкинули из больницы и он снова оказался в своей чердачной комнате при Синагоге.
«Мамэ, татэ, возьмите меня к себе!»
«Мамэ, татэ, возьмите меня к себе! Я хочу к вам, мамэ, та-а-атэ... Мамэ, татэ!» — иногда стонал и плакал реб Берл, причитая, как ребенок.
Однажды кто-то, кажется Изя Коган, организовал к реб Берлу частный визит какого-то медицинского светила — хирурга-уролога по фамилии также Коган. На встречу-консилиум с ним пригласили и меня. У кровати больного нас собралось 7-8 молодых людей, так или иначе причастных к уходу за ним. После осмотра мудрый еврейский доктор Коган печально улыбнулся, пожал виновато плечами и сказал: «Положение серьезное. Одно могу сказать: я бы очень хотел, чтобы, когда придет мой час, я, как ваш Борис Львович, был бы окружен такими вот верными друзьями». Посоветовать, как лечить больного, доктор не смог, кроме как: «Если хотите, попробуйте поколоть ему пенициллин, хотя...»
Опять этот бесполезный пенициллин! Его следовало колоть три раза в день, но и это было нереально осуществить. Какое-то время я заменял его на такой же бесполезный бициллин — пенициллин продленного действия, который я приезжал делать реб Берлу два раза в неделю. Кипятил мамин шприц в дедушкином еще стерилизаторе и производил совершенно напрасный укол, сопровождая его никогда не напрасным пожеланием полнейшего выздоровления: «рефуа шлема!»
Но чуда не происходило... Наш больной таял на глазах. Единственным способом отправить его в больницу была госпитализация по скорой. План мы с друзьями разработали в мельчайших подробностях. Ждали оказии, когда знакомый фельдшер Славик Фласбург будет дежурить на скорой, оценит ситуацию как критическую и отвезет реб Берла в более или менее приемлемую больницу.
«Што-о?!»
В назначенный день и час, я, как условились, позвонил на районную подстанцию скорой и вызвал Славика на Лермонтовский, в Синагогу. Пока он оформлял бумаги, я помогал реб Берлу приодеться. О, эта извечно страшная картина, когда человек с себя снимает то, что есть, пусть старое и грязное, но СВОЕ, и одевает то что предлагают, поторапливая: «Побыстрее, ждут!» А сил на «побыстрее» нет совсем, их вообще нет, даже чтобы кое как нацепить на голое дряблое тело больничную мятую рубаху. Были в те годы такие капроновые, почти пластмассовые рубашки... Будучи постираны, но не повешены на вешалку, а выжаты и скомканы, как попало, они оставались ломаными, словно жеваными навсегда. Вот такую рубашку я помог нацепить реб Берлу на голое тело. Застегнули пуговицы — те, что были. Ермолка и талискотн остались на неубранной кровати — не надевать же их в больницу — а «Побыстрее, ждут!»
Кое-как спустились, цепляясь за перила. Синагогальный двор и скорая с мигалкой у ворот. Уложили стонущего, уже другого — словно бы не его, не реб Берла — с непокрытой головой и с закатанными рукавами до локтей — рубаха-то не по размеру. И с сиреной — Славика уже другие ждут!
Привезли куда-то. Говорят: дежурная, районная, больница. В пустом приемном хмурый тощий доктор, точно как патологоанатом на старинной открытке «Последняя встреча», что я недавно в «Букинисте» приобрел. И в глаза не смотрит, и отводит свой тяжелый взгляд.
«Ну, давай снимай портки, садись! — буркнул недовольно, в направленье глянул — взял катетер жесткий изогнутый, ткнул в реб Берла — тот от боли взвился, закричал: «Ай- яй — яй!». А потом как будто бы поник и уж тише: «Ай-яй-яй...»
Слышу я, реб Берл дышит тяжело, с хрипами какими-то и бульканьем, и губы даже посинели — раньше вроде не было такого. В институте мы когда-то это проходили. Говорю врачу: «Коллега, что-то он хрипит и дышит тяжело, со свистом... Не отек ли легких у него?! Может, эфедрин и мочегонное ему?»
А он, «доктор», глянул на меня, как на клопа или на вошь — сморщил нос и с точной интонацией той тетки-докторицы из предыдущей больницы: «Што-о?! Давай, вези его на отделение. Давай! Не понял, што ль?», — и махнул рукою на соседний длинный коридор.
О, это их «Што-о» Незабываемое, наглое, самоуверенное, высокомерное, жлобское, казармеменное, тюремное, жалящее, убивающее, ненавистное! Это ИХ «Што-о» не спутать ни с чем иным. Это ИХ верный знак и примета, этих посланцев могильного холода, удушья и отчаянной тьмы. Бежать бы, сломя голову, при первом звуке такого «Што-о», но некуда, да и невозможно. Словно паралич охватывает все тело, словно путы, этот леденящий душу ужас.
«Я все равно буду кричать!»
Я ввез стонущего реб Берла в большую палату, где на нескольких рядах кроватей уже лежал десяток больных. Медбрат, совсем парнишка, с бабьим лицом и длинными патлами до плеч, показал нам свободную кровать.
Пока я пытался уложить реб Берла, он снова начал кричать. Я держал его за локоть и просил: «Борис Львович, ну пожалуйста, не кричите! Вам сейчас помогут, не кричите так — тут же люди, больные, отдыхают, спят...». А он вдруг посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и выпалил, как упрямый и капризный ребенок: «А я хочу кричать! Я все равно буду кричать!»
И тут произошло нечто, что потрясло мою душу навсегда: Мужичок какой-то на соседней кровати приподнялся на локтях и громко бросил мне: «Пусть себе кричит! Если больно — пусть кричит! Что ты рот человеку затыкаешь!». И другой, рядом с ним, тоже: «Конечно, пусть кричит, если болит!»
И было в сцене этой столько глубинного, человеческого, русского, я бы сказал даже... этнического, сострадательного, простого, что я, так стеснявшийся криков реб Берла, боящийся упреков других больных, глупый, не понимающий почти ничего ни в жизни, ни в смерти, устыдился самого себя.
Теперь я знаю, что не только щепетильность и забота о других больных направили меня глушить стоны реб Берла. Просто... я более не мог слышать его крики. И сердце мое, надрываясь, искало лживые пути преодолеть эту нестерпимую боль.
Со временем я пойму тот парадокс, когда врач или близкие, не в силах помочь, начинают обвинять больного, сердятся на него, избегают его и даже осуждают его жалобы, как это тогда случилось со мной.
Три рубля
...Я достал трехрублевую мятую бумажку, сунул ее в ладонь женоподобного медбрата и попросил его поторопить приход врача и еще позаботиться о нашем пациенте, дать ему, «чего-нибудь от боли», «успокаивающего». «Не волнуйтесь, сделаем», — ответил он мне и как-то странно улыбнулся. Так, что я и по сей день помню этот нелепый детский пушок над его губой. Затем я шепнул еще что-то реб Берлу, махнул ему, чуть притихшему, и скорей помчался на работу, на прием, куда уже изрядно опаздывал. Выскочив на улицу и глубоко вздохнув, я почувствовал облегчение от исполненной задачи — «госпитализация» прошла благополучно. Вот-вот на смену мне кто-то подойдет из наших и посидит с реб Берлом у постели...
Через несколько часов мне позвонили и сказали, что Борис Львович Медалье умер.
В тот час возле него был Илья Дворкин.
Сколько ни думать о неизбежном, как не понимать его неотвратимость, все равно это всегда страшный удар исподтишка. Почему это произошло вскоре нашего прибытия в больницу, мне непонятно. Вот выпало бы дежурство Славика «по скорой» не в тот злополучный день и час, а, допустим, через день или неделю — может страдал бы вместе с нами лишний день или неделю наш реб Берл? Сколько раз я наблюдал, что «свои стены лечат», что только вытащи больного из привычной обстановки — сразу катастрофа, сразу срыв. Словно расслабляется душа, устает сопротивляться, а окружающие люди, вещи и дела ее уже не держат, отпускают... Может, он от боли умер, от катетера того, от сердечного приступа, отека легких... Может, трехрублевая бумажка та, что я медбрату передал, оказалась не на пользу, а во вред?
А назавтра позвонила Любовь Сомойловна Беспалова — супруга реб Абрама Львовича Медалье, брата покойного реб Берла: «Знаю я, как все вы помогали, опекали в трудный час. Так я прошу, пожалуйста, не оставляйте и сейчас его... с похоронами, чтобы сделали как надо».
Я узнал, что этим занимаются уже..., а сам на похороны не пошел. Может, был занят по работе, а может, делал обрезание какому-то ребенку. Ведь держался я такой привычки, чтобы с разбитым сердцем обрезание не делать, чтобы горечь смертную ребенку вместе с радостью не передавать.
А скорее, от стыда, что я просил его кричать потише, что оставил, пусть на несколько минут, что не сделал чуда и не уберег. И что ту рубашку мятую помог ему одеть. Что в больницу торопил и... что сунул эти три рубля.
Было это в ноябре 1983 года, а в мае 1987 я поднялся на Святую Землю.
За все это время я не удосужился и не удостоился побывать у него на могиле, хоть и не забывал реб Берла никогда.
По сегодняшний день мне не удалось найти ни одной фотографии Бориса Львовича тех лет.
Йорцайт реб Берла Медалье — 15 кислева.
Бер-Шмер бэн а-рав Шмериягу Арье- Лейб, благословенной памяти.
Стихи на смерть реб Берла Медалье
Дополнение Арье Ротмана
«В этой комнате, или рядом доживал последние дни младший сын московского раввина Медалье, за которым присматривали старший брат и молодые прихожане. Там я нашел заявление от раввина (кажется, именно Лубанова) с просьбой предоставить ему квартиру, поскольку стена нового бассейна, построенного рядом с синагогой, закрывала дневной свет. Действительно, окно выходило на узкую щель. Лубанов получил квартиру в Московском районе. О синагоге тех лет у меня сохранились тяжелые воспоминания. Оттуда просто гнали. Спускали собак, выталкивали, ругали. Но туда ходили чудесные старики. Таких евреев больше нет: мы были борцами, нами двигала ненависть к угнетателям, мы были советскими детьми. А они смотрели глазами источавшими доброту, робость и свет. Такие глаза в Израиле я видел только у своего учителя рава Зильбера. Никого уже не осталось в живых. От той поры у меня сохранилось стихотворение — тогда еще драматурга, а не поэта.
Ветер сыпал с карнизов
град исколотых льдинок.
Задувал из-под низу,
забирался в ботинок.
Ночь в велюровом фраке
подметала пространство.
В синагоге собаки
сторожили убранство.
Там, на стульях сплоченных,
под свечею оплывшей,
крытый парусом черным
стал корабль не отплывший.
И в снастях его тонких —
в темноте не увидишь,
о потере ребенка
Бог винился на идиш.
По проходу вдоль гроба
пробегали собаки.
Тенью сонная злоба
исчезала во мраке.
И когда, догорая,
с треском гаснула свечка,
из сожженного края
не прощало местечко.
И неслышимый, тише
тетивы псалмопевца,
снег ложился на крыши
и не таял у сердца.
...Те четыре, что тело
забирали в подвале,
молча делали дело
и губами шептали.
Те четыре — это были мы с Ильей Дворкиным, Зяма Руппо и кто-то еще — а кто именно, не помню. А в гробу лежал младший Медалье.
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2