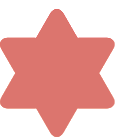31.03.2020
Воспоминания о Политехе
Д-р Михаэль Бейзер рассказывает о годах учебы, педагогах и еврейских друзьях, «сионистском кружке», стройотряде... Это не просто факты биографии: это история эпохи. История евреев в России.
 Главное здание Политехнического
Главное здание Политехнического
 Актовый зал Главного здания Политехнического института в день юбилея Физмеха.
Актовый зал Главного здания Политехнического института в день юбилея Физмеха.
Празднование 100-летия физмеха в октябре 2019-го и нахлынувшие в связи с этим воспоминания подвигли меня к написанию еще одной главы мемуаров — о студенческих годах. Так как в жизни мне почти не довелось использовать полученные на физмехе знания, то, естественно, я очень слабо помню сам процесс обучения, не говоря уже о пройденных предметах. Запомнилась скорее околоучебная жизнь, да и то больше связанная с тем, чем я занимался в действительности, — с историей евреев в России.
Учеба
Как я поступил в Политех
Это было, страшно подумать, полвека назад. В 1967 году, под гром победы Израиля в Шестидневной войне, мы закончили 239-ю физмат школу. Теперь нужно было получить наилучшее образование, а дальше, если получится, — научная карьера. Благодаря нашим замечательным учителям мне не требовались дополнительные занятия с репетиторами, но «пятый пункт» отсекал возможность поступить в университет. Вторым по престижу считался физико-механический факультет Политехнического института, куда, по слухам, евреев пока принимали. Школьный товарищ Сережа Половко, отец которого был профессором в военной академии, знал, что лучшая кафедра физмеха — это кафедра механики и процессов управления профессора, членкора АН СССР Анатолия Исааковича Лурье.
 А.И.Лурье
А.И.Лурье
В то время слово «кибернетика» в официальных названиях все еще стыдливо заменяли на ТАУ — «теорию автоматического управления». Много лет спустя я узнал, что А.Н. Лурье был кузеном выдающегося историка античности Соломона Яковлевича Лурье, автора книги «Антисемитизм в древнем мире» (1922), в которой тот впервые указал на дохристианские истоки антисемитизма, детально проанализированные в фундаментальном труде Бенциона Натаниягу «История инквизиции в Испании 15 века». По рассказам, когда на заседании в Академии наук от ученых потребовали подписывать заявление с осуждением академика Сахарова, с Анатолием Исааковичем случился сердечный приступ (возможно, что инсценированный). Его увезли на скорой помощи, так что осуждение вышло без его подписи.
Не получив медаль (в аттестат вкралась лишняя четверка), я сдавал все пять вступительных экзаменов. Первый — письменная математика, второй — устная. На устном экзамене я так устал, что с трудом плелся к дому от трамвайной остановки. Увидевшие меня с балкона родители по моему виду решили, что дело плохо, но я предъявил им две отметки «отл.» По физике я заработал тройку, вроде бы, потому, что не смог объяснить, почему облака не падают на землю. Легко сдав химию на «пять», я отправился на самый коварный экзамен — сочинение. Дело в том, что я не страдал абсолютной грамотностью, к тому же слышал, что, если еврея хотят завалить, его валят на сочинении. После того как экзаменатор написал на доске темы и спросил, есть ли вопросы, я поинтересовался, какой должен быть у сочинения минимальный объем, чтобы это не сказалось на оценке. Написав за полтора часа названное число страниц, я все оставшееся время вычитывал написанное. Тактика сработала, я получил желанную четверку и по совокупности (с учетом почти отличного аттестата) был принят. К тому времени наша семья переехала на ул. Карпинского на Гражданке, так что ехать до Политехнического было недалеко.
Голос Гольдберга
Обычная стипендия на нашей специальности «системы автоматического управления» с доплатой от министерства обороны составляла 45 рублей, повышенная — 56. На первые две стипендии я купил себе секретер, чтобы учиться, а на вторые две — радиолу, что проигрывать пластинки и слушать «голоса» — «Би-Би-Си», «Голос Америки», «Свободу», «Немецкую волну», ну и, конечно, «Коль Исраэль» («Голос Израиля»). Вместе с уже имевшейся кушеткой, которую моя мама почему-то называла оттоманкой, новые приобретения до отказа заполнили мою крохотную комнатку. Узнать, что происходит в мире на самом деле, можно было тогда только из передач зарубежных радиостанций, пробивавшихся сквозь треск безбожного глушения. Голос обозревателя «Би-Би-Си» Анатолия Максимовича Гольдберга мы узнавали, как когда-то узнавали голос московского диктора Левитана.
Самый высокий процент евреев
Наша кафедра готовила специалистов по специальностям — «системы автоматического управления» для работы в военно-промышленном комплексе и «динамика и прочность машин» для невоенных отраслей. Среди профессоров и преподавателей кафедры процент евреев был самым высоким на факультете. Кроме заведующего, я помню Владимира Яковлевича Катковника (сейчас живет и работает в Финляндии), Михаила Захаровича Коловского (ставшего впоследствии профессором на кафедре теории механизмов), доктора Евгения Гильбо (эмигрировал в США), Илью Борисовича Бергера, Владимира Марковича Фридмана. Любимый ученик Лурье — профессор Анатолий Аркадьевич Первозванский (погиб в 1999, попав под поезд) — был евреем по матери. Соседнюю кафедру гидро- и аэродинамики возглавлял друг и соавтор Лурье, Лев Герасимович Лойцянский. Мы учились по их многократно переизданному учебнику «Теоретическая механика». Теперь я знаю, что Лойцянский в юности закончил с отличием частную еврейскую гимназию И. Эйзенбета на Театральной площади и даже в Белой армии два месяца успел послужить. Еще он обладал знатной коллекцией русской живописи.
 Л.Г.Лойцянский
Л.Г.Лойцянский
 Стоит А.А.Первозванский
Стоит А.А.Первозванский
 В.Я.Катковник
В.Я.Катковник
Моисей Иосифович Бать, Сергей Павлович «Преображенское кладбище» и другие педагоги
Вначале в нашей группе было 24 человека, но на первых двух курсах половина отсеялась. Этому много способствовал ассистент Сергей Павлович Преображенский, которого за глаза называли «Преображенским кладбищем». Получить у него зачет по математике было нелегким делом и занимало не один день. А без зачета не допускали до сессии. Теперь он профессор на Кафедре высшей математики, а тогда я видел в нем лишь хладнокровного садиста.
Особенно быстро вылетали иногородние, поскольку в условиях общежития (пьянка, преферанс) готовиться к экзаменам было невозможно. Одним из первых был отчислен Петросян из Тбилиси. На мой вопрос, почему он не поступал дома, он ответил: «Мой отец не так богат. Ему проще содержать меня в Ленинграде».
Лектором по математике был доцент Анатолий Петрович Аксенов. Ставя очередной «неуд.», он приговаривал: «Баба с возу — кобыле легче» даже в тех случаях, когда жертвой был парень. Боюсь, он бы не понравился современным феминисткам.
 А.П.Аксенов
А.П.Аксенов
Теормех нам читал Моисей Иосифович Бать. Я это забыл, но Блохин напомнил мне эпизод, как однажды Бать принес на лекцию огромный фолиант в красивом переплете. «Это старое издание трудов Ньютона, — объявил М. И. — Эту книгу я приношу на лекцию впервые». Прочитав отрывок, он прокомментировал: «Таким образом, Ньютон пришел к мысли о существовании Бога».
Физику нам читал профессор Марк А. Гуревич, а практические занятия вела молодая красивая грузинка Ольга Сресели. Мне и Андрюше Черкаеву она нравилась, поэтому мы мешали ей вести занятия. Как-то она не выдержала и выгнала нас из аудитории. Стоя в коридоре мы спешно сочинили ей стих, начинавшийся словами:
Духовной жаждою томим,
Я в гидрокорпус притащился.
Но вот, за дверь я выгоним...
(этот оборот «за дверь выгоним» придумал Черкаев, остальное — Пушкин)
В конце стиха мы признавались ей в любви (там было «Поверьте, очень любим Вас!») и заканчивали:
Мы горим от нетерпенья
В ожидании прощенья.
После звонка мы отдали ей стих. Она его весь прочла, аккуратно сложила и спрятала. «Ну что ж, горите от нетерпенья», — только и сказала.
В 2001 Ольга Михайловна Сресели защитила докторскую диссертацию на тему «Полупроводники с модифицированной поверхностью — регулярный микрорельеф и квантово-размерные нанокристаллиты». Хочется думать, что она до сих пор где-нибудь хранит наш листок.
«Не могу смотреть без смеха на дистрофиков с физмеха»
Первые два года студенты должны были заниматься физкультурой и спортом по своему выбору. По моим тогдашним наблюдением, физическое развитие было обратно пропорционально умственному. Все наши без пяти минут гении не отличались, мягко говоря, хорошей физической подготовкой, поэтому и записались в подготовительную группу, где к их «особым потребностям» относились с пониманием. Однажды какой-то завистник даже нацарапал на столе учебной аудитории: «Не могу смотреть без смеха на дистрофиков с физмеха». Мы же с Володей Блохиным решили использовать открывшуюся возможность и заняться настоящим спортом. Когда мы явились на секцию гимнастики, пожилой тренер Ляховицкий сразу понял, что никакого спортивного прошлого у нас нет, но отказать нам не имел права. Гимнастика давалась нам с превеликим трудом: коня было не перепрыгнуть, а упражнения на кольцах казались невыполнимыми. Все-таки к концу второго курса я мог пройтись колесом, сделать (со страховкой) фляк и как-то прокрутиться на турнике (сейчас кому ни расскажу, никто не верит). Ляховицкий называл нас с Володей «два друга, модель и подруга» (по старому советскому немому фильму), но зачеты ставил.
«Мне нужен труп, я выбрал Вас...»
На первом курсе нам нужно было сдавать химию, который читал замшелый профессор Владимир Петрович Шишокин. Он был большим почитателем Михаила Васильевича Ломоносова и заставлял нас заучивать открытый им закон: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что ежели где чего в одном месте убавится, того в другом месте присовокупится». Скептикам, утверждавшим, что Ломоносов «открыл» закон Лавуазье, Шишокин отвечал, что Лавуазье открыл закон сохранения энергии, а Михаил Васильевич — более общий, философский закон. Шишокин не обращал внимания на то, что огромная, спускавшаяся амфитеатром аудитория, на две трети пустовала. Никого из нас он не помнил. Однажды некий шутник (Блохин сообщил мне, что это был Аркаша Мархасев) послал ему записку: «Мне нужен труп, я выбрал Вас / До скорой встречи, — Фантомас». Тогда у нас в кинопрокате шел одноименный приключенческий фильм с Жаном Маре в главной роли. Профессор аккуратно прочитал записку вслух, пожал плечами и заметил: «Вероятно, это какой-то неизвестный мне литературный герой».
 В.Блохин (слева), М.Бейзер, С.Иванов
В.Блохин (слева), М.Бейзер, С.Иванов
Судьба одногруппников
Сплоченным коллективом наша группа не стала. Мы никогда не собирались все вместе, даже не было банкета по окончании. Ни одной групповой фотографии у нас тоже не осталось, не говоря уж о выпускном альбоме. На 100-летний юбилей физмеха пришло только трое: петербуржцы Сережа Иванов и Володя Блохин, да я — иерусалимец. Виталик Климович, теперь профессор Политеха, не явился. Другим далеко было бы добираться. Андрей Черкаев — профессор ун-та штата Юта, Леня Лейбович, Женя Крол и Сема Шейнин тоже живут в США, Андрюша Федоров — в Ванкувере. Леня Лейбович был футболистом, учился хуже нас всех, но его не отчисляли, так как он защищал спортивную честь института. Папа Жени Крола, бывший военно-морской врач, умер в Израиле, оставив после себя интересную книгу воспоминаний «Как отпускалась сталь». Витя Койфман умер. Про судьбу остальных (Саша Муравина, Сережа Сенских) я ничего не знаю.
Друзья
Коллективистами мы не являлись, но у каждого были друзья. Я дружил в Черкаевым, Блохиным и Ивановым из нашей группы, с однокурсниками с других групп и кафедр — Сережей Половко, Леной Хейфец, Витей Зейлигером, Даней Лейбманом, Костей Бердичевским (последние четверо сейчас в США), Таней Грингот (в Израиле). Я не помню, чтобы хоть раз ходил на институтские вечера, где танцевали. Вместо этого мы собирались на дому своей компанией школьных друзей, которую подбирали Даня Лейбман с Леной Хейфец. В нее, кроме них и меня входила младшая сестра Хейфец Аня, ее подруги Наташа Сироткина (уже в ином мире) и Таня Грингот, Аня Гендель (в Израиле) да еще двое-трое человек. Мы и в горный поход на Кавказ после второго курса ходили примерно в этом составе. Особо запомнился тихий, интеллигентный юноша из Кишинева Боря Карпа, который на втором курсе заболел саркомой и перестал ходить на занятия. Я его иногда навещал, потом приходил, когда ему уже ампутировали ногу. Тяжело было мириться с такой несправедливостью, а сколько их еще ожидало нас в будущем! Подруга Бори, не оставлявшая его до последнего дня, позвонила мне, когда его не стало. Он завещал мне аккуратно перепечатанный на машинке томик стихов Осипа Мандельштама. «Петербург, я еще не хочу умирать / У меня телефонов твоих номера...». Ведь тогда Мандельштама еще не издавали и даже не упоминали в прессе.
Самиздат
Важным источником сведений о прошлом страны и ее культуре стал для меня самиздат. В нашей группе главным, если не единственным, поставщиком самиздата был Черкаев. Он привозил его из Москвы. Черкаев давал мне читать Синявского, Даниэля, Солженицына, Гроссмана, много чего. Помню сюжет одной сатирической повести о том, как уголовник выкрал голову Ленина из Мавзолея, надеясь получить хороший выкуп. Но власти не стали искать пропажу, а подбирали живых двойников Ильича, чтобы отравить и уложить на его место. (После выставления этого текста в Фэйсбуке Гуля Романова сообщила мне, что произведение называлось «Смута новейшего времени или удивительные похождения Вани Чмотанова», а его автором был Николай Боков.) Стихи Бродского всегда были в нашем доме. «Письма римскому другу», «Сонеты к Марии Стюарт» я учил наизусть.
Стройотряды
Интеротряд. Во главе сионистской группы
Политехнический институт славился строительными отрядами, ведущими свою историю, если не ошибаюсь, с 1947 года. Вот и нам было предложено записываться в стройотряды после окончания первого курса. Хотя я нуждался в деньгах, трудные условия жизни и работы в стройотрядах меня останавливали. А отдыхать когда? Однако, когда объявили о создании интернационального стройотряда в Выборге, то я допустил, что там из-за иностранцев условия будут лучше, и записался. К тому же я хотел увидеть этот бывший финский город. Видимо, и другие так рассуждали; в результате «интернациональным» состав отряда получился из-за обилия евреев. Иностранцев поначалу было всего два: Фишер из Венгрии (конечно, тоже еврей) и кубинец Гомес Северио Перси Гонсалес, внешностью напоминавший индейского вождя. Позже в отряд влилась группа студентов из ГДР. Немцы немного знали русский и приторговывали привезенными с собой шмотками.
 М.Бейзер и Г.Гонсалес в Выборге. 1968
М.Бейзер и Г.Гонсалес в Выборге. 1968
Мой школьный товарищ Леня Гозман, учившийся по специальности «динамика и прочность», ныне известный московский оппозиционер, догадался записаться в лекторскую группу комитета комсомола, которая поселилась вместе с нашим отрядом. Лекций пока не было, и он ходил с нами рыть траншеи. По утрам нас будили включенными на всю мощь магнитофонными записями «битлов», после чего я еще долго не мог их выносить.
 Интеротряд. Выборг. Гозман ставит мне рожки.
Интеротряд. Выборг. Гозман ставит мне рожки.
Антисемит Женя
Комиссаром отряда назначили пятикурсника с физико-металлургического факультета, кандидата в члены партии Женю Пряхина. Женя был недалеким парнем, отдавал дурацкие распоряжения. Немцев он встретил вопросом «Шпрехен зи дойч?» Студенты физмеха, задававшие тон в стройотряде, смотрели на него свысока. К тому же он был злопамятным антисемитом. Конфликт между нами был предрешен. На одном бурном общем собрании вольнодумцы выложили ему все, что накопилось. Кажется, и я что-то говорил. Женя отреагировал по-комсомольски: поехал в районный штаб стройотрядов и договорился о переводе «бунтовщиков» из своего отряда в карельскую глушь, село Ольшаники Первомайского района. Для того, чтобы оставшиеся не продолжили конфронтацию, Женю перевели в штаб или в другой отряд, а на его место назначили одного из бригадиров.
В глуши работа была тяжелее, а бытовые условия много хуже. Комиссаром сборного отряда был Гриша Дорфман (в годы перестройки стал бизнесменом и умер). Зарплату нам в конце срока не выплатили то ли потому, что ее украл командир, то ли потому, что за предыдущим отрядом на этом объекте накопился долг, а мы его отрабатывали. В общем, полный беспредел. Зато там я научился класть кирпичи.
Именно там, в глуши, где зарубежные «голоса» глушили меньше, мы услышали о вторжении советской армии в Чехословакию. Я до сих пор помню свою боль от возмущения и бессилия. Последние иллюзии развеялись.
По возвращении я столкнулся в коридоре института с Сашей Езраховичем, которого знал еще по школе и которого не изгнали из Выборгского интеротряда. Саша принадлежал к исчезавшему виду евреев, надеявшемуся комсомольской активностью искупить свой первородный грех. В школе он был секретарем комитета комсомола, да и в институте начал было продвигаться по комсомольской линии. Езрахович отвел меня в сторону и по секрету сообщил, что, оказывается, Пряхин написал в комитет комсомола ЛПИ донос о том, что в его отряде действовала сионистская ячейка во главе с Бейзером и Гозманом. Такой донос в ту накаленную пору после Шестидневной войны и оккупации Чехословакии мог легко вылиться в исключение нас из комсомола и института. К счастью, новый комиссар, простой парень с украинской фамилией, поступил порядочно, вынув страничку доноса из отчета.
Алекс Езрахович теперь живет в Австралии, является экспертом в вопросах сертификации и аудита систем менеджмента, регулярно наведывается в Россию.
Казахстан и эпидемия холеры
После третьего курса я снова записался в стройотряд, на этот раз в Кокчетавскую область (западный Казахстан). Нам троим, Яше Лурье (сейчас в США, женат на Лене Хейфец), Жене Кролу и мне как старшим выделили отдельный домик, что было удобно для того, чтобы писать «пулю», то есть играть в преферанс. Полудикие верблюды за окном, туалетные будки с вышибленными дверями и стенками, поездки на работу в кузове трехтонки без скамеек по степному бездорожью — романтика. Один из местных подыскивал среди нас жениха для своей дочери, обещая верблюда в приданое. На отвальной, после долгого воздержания, нам выставили ящики с «Москваныном», «Московской водкой» казахского производства и качества. Дальше я ничего не помню, как будто свет погас.
 Я и арматура. Кокчетавская область. 1970.
Я и арматура. Кокчетавская область. 1970.
 Я.Лурье, М.Бейзер, Е.Крол.
Я.Лурье, М.Бейзер, Е.Крол.
Все же мы в тот раз что-то заработали. И вообще, закончилось весело — разразилась эпидемия холеры.
Иврит. Знакомство с сионистами
«Французы из Палестины»
Мы учились на мехпотоке (150 из 300 студентов одного курса), где евреев было больше, чем на физпотоке, куда их старались не брать из-за кафедры ядерной физики. Мавр сделал свое дело — ядерное оружие, и на этом доверие к нему иссякло. Однажды, в конце первого курса, мой школьный друг Давид Лейбман (он учился на кафедре биофизики) явился с новостями. Лектору по истории партии Геннадию Ивановичу Цыпину (его единственной публикацией было методическое пособие по статье В. И. Ленина «Очередные задачи советской власти») во время лекции на мехпотоке прислали записку. Заглянув в записку, Цыпин не решился прочесть ее вслух, унес домой, подготовился и зачитал у физиков. В записке аргументированно утверждалось, что Израиль прав в конфликте с арабскими странами, которые сами являются агрессорами. Под запиской стояла подпись: «Французы из Палестины». Что тут поднялось! Лектору не давали говорить, он ретировался с позором. В те дни на доске объявлений цокольного этажа Главного здания кто-то начертал: «Французам из Палестины зарегистрироваться в профкоме». Мне еще предстояло познакомиться с этими «французами».
Кружок иврита
Осенью 1968 года, на втором курсе ко мне подошел Веня Гросман из группы «динамика и прочность» и предложил изучать иврит. Я всегда интересовался еврейскими делами и, конечно, хотел бы уметь говорить на еврейском языке. В общем, я дал согласие. Преподавал сам Веня. Занятия проходили у него дома. Учеников было четверо или пятеро: Аркаша Мархасев из Вениной группы, две девушки из Кишинева, проживавшие в общежитии, и я. Девушки были симпатичными, и я остался. Мы учили язык раз в неделю по блеклым фотографиям, сделанным со страниц израильского учебника «Элеф милим» (Тысяча слов).
Урок стоил рубль. Учебник надо было покупать. Готовиться к урокам приходилось подолгу, запоминая много новых слов. Помогало чувство гордости — я буду знать язык своего народа. Иногда Веня давал нам почитать еврейский самиздат — стихи Бялика, фельетоны Жаботинского, сокращенный вариант «Эксодуса» Леона Юриса.
У Вени был дядя в Риге. От дяди он слыхал, что власти начали выпускать евреев в Израиль, пока что только стариков и инвалидов. Веня надеялся, что со временем и он сможет уехать. Он, как и Мархасев, входил в группу Гилеля Бутмана, одного из руководителей ленинградского сионистского подполья. Как-то Веня пригласил нас на лекцию об Израиле с показом слайдов. Сейчас я знаю, что лектором был Давид Черноглаз (сегодня израильский пасечник Давид Мааян; его мед замечательный), но тогда в целях конспирации никто никого ни с кем не знакомил.
Я понимал, что могу нажить неприятности, но надеялся проскочить. Когда меня позвали на совместное празднование Песаха, я не пошел из осторожности. Венины подкаты, что и мне стоит задуматься об отъезде в Израиль, я отметал. Учить язык — это одно, а вступить в борьбу за выезд, конфликтовать с системой с ничтожными шансами на успех я не мог. Не повзрослел еще. Я только представлял, каким ударом для моих родителей станет известие о том, что их сына исключили из института за сионизм. Ведь я был единственным из детей, которого мама с папой смогли содержать на дневном отделении. Мысль о возможности оказаться в армии под произволом дедовщины меня вообще приводила в ужас. Приближалась зимняя сессия, нужно было интенсивно готовиться к экзаменам. Я забросил иврит. А Мархасев продолжал. Они с Веней перевелись на вечернее отделение, чтобы не идти на военную кафедру и в момент подачи заявления в ОВИР не иметь секретности. Теперь я встречал их очень редко, в библиотеке, например.
«Уберите из дома все лишнее»
15 или 16 мая 1970 года мне кто-то позвонил из телефона-автомата и посоветовал убрать из дому все «лишнее». Я по неопытности спросил «кто говорит?», но тот уже повесил трубку. В это время по городу шли аресты и обыски. Первый секретарь Обкома КПСС Толстиков решил использовать попытку группы Кузнецова-Дымшица захватить самолет и сбежать в Израиль для разгрома сионистского подполья в Ленинграде.
Мне особо нечего было прятать. Я только отнес учебник иврита на фотографиях и тетрадку с упражнениями своей будущей жене Тане Грингот. Веню несколько раз допрашивали в КГБ, но он меня не назвал. Его забрали в армию, где он, уже владея английским, не терял времени даром и учил французский язык. Отслужив, Гросман уехал в Израиль, где доучился в Технионе.
Разгром сионистов выразился в двух Ленинградских, Кишиневском и Рижском процессах (где тоже фигурировали ленинградцы), в многочисленных обысках в нескольких городах, увольнениях с работы, исключениях из вузов. Круги от процессов далеко разошлись. В частности, КГБ взялся за группу сокурсников Гросмана и Мархасева. Они располагали магнитофонной записью разговоров, сделанной их информатором на праздновании Песаха и, вычислив по ней троих студентов — Ирену Сорокопуд (сейчас живет в США), Мишу Мокрецова (в Израиле) и Якова Берлина, устроили собрание с целью исключить их из комсомола, а затем из института.
Исключение «сионистов»
Положение студентов группы «динамика и прочность» было незавидным. Им в присутствии лектора по научному коммунизму, представлявшего партком, и гэбиста предстояло проголосовать за «волчий билет» своим товарищам. В случае отказа угроза нависала над ними самими. Мне потом рассказывали, что большинство выбрало компромиссный вариант: парнями пожертвовать, а девушку спасти, ограничившись выговором. Двое проголосовало за то, чтобы никого не исключать, а двое — за исключение всех троих. Среди последних оказался мой друг Витя. Витя был уже женат. Помнится, я был потрясен роскошью угощений на его свадьбе. Родители невесты, кажется, работали в торговле. Отец Вити был доцентом на другом факультете и знал, что политически некорректное голосование может усложнить его сыну будущее. Я не простил Вите этот поступок, представив, что и сам мог оказаться в компании заклейменных. Теперь его семья живет в Силиконовой долине.
Сюрреалистическим моментом в этом судилище было то, что Яков Берлин свою вину отрицал и на самом деле не был ни в чем замешан. На ту вечеринку вместе с Иреной ходил другой Яша — Лурье из параллельной группы, но искать его там гэбисты не догадались. Исключили всех троих. Через пару лет руководство кафедры (порядочные люди!) добилось восстановления в институте выгнанных студентов. Тех, кто голосовал против исключения, никак не наказали.
«И откуда вы взялись?»
Так дважды Всевышний уберег меня от исключения из Политеха. Много лет спустя, в 1982, когда я уже сам стал еврейским активистом, капитан КГБ Масленников, на «профилактической беседе» заметил мимоходом: «И откуда вы взялись? Ведь в прошлом на вас ничего нет».
Процессы над сионистами и вынесенные им непомерно жестокие приговоры (Дымшиц и Кузнецов получили вышку) вызвали нежелательную для Кремля волну протестов на Западе и, к тому же, возможно, были истолкованы, как попытка Толстикова усилить свои позиции в Политбюро. Смертные приговоры заменили на 15 лет лагерей, а Толстикова сняли с должности секретаря обкома и отправили послом в Китай. Не рассчитал.
Как я узнал много позже, до революции именно в Политехническом институте учился петербургский лидер нелегальной студенческой сионистской организации «Хе-Хавер (Товарищ)» Аврахам Идельсон (Илон). В ячейке «Хе-Хавер» Политеха состоял и другой известный активист Ицхак Виленчук. Оба впоследствии занимали высокие административные должности в Эрец-Исраэль и государстве Израиль. Так что мы, оказывается, продолжили традицию.
Навстречу распределению
Не упоминая слова «евреи»...
Учиться у нас было трудно, и учился я не ахти, даже стипендию не всегда получал. У некоторых моих сокурсников родители могли составить протекцию своим чадам, а мои родители таких связей не имели. Это уменьшало мои и без того призрачные шансы как не отличника и еврея получить достойное распределение. Выпускники по нашей специализации обычно распределялись в ведущие научно-исследовательские институты и конструкторские бюро города, работавшие на оборону. Их буквально расхватывали. Однако с 1967 года, когда мы поступали, до 1973, когда мы заканчивали, евреев в такие учреждения почти перестали брать. Руководство кафедры знало об этом и решилось на превентивный шаг. На четвертом курсе две наши группы оставили после занятий. А. И. Лурье предусмотрительно отсутствовал. Первым говорил инвалид войны Илья Борисович Бергер (или Баргер), потом еще кто-то еще из преподавателей. Не упоминая слова «евреи», они сообщили нам, что распределение обещает быть трудным и что некоторым из нас стоило бы подумать о переходе на специализацию «динамика и прочность», с которой распределять их будет проще. Они заверили, что удовлетворят все заявления о переводе и облегчат досдачу недостающих курсов. Из нашей группы перевелся Витя Зейлигер и, таким образом, вскоре оказался на том злополучном собрании, где исключали «сионистов». Я остался: во-первых, жаль было терять десятирублевую надбавку к стипендии, во-вторых, я не был уверен, что для меня такой переход что-нибудь изменит. Да и от товарищей не хотелось уходить.
Я и Томас Мор
Затрудняясь в высоких материях точных наук, я всегда с легкостью усваивал и сдавал марксистско-ленинскую дребедень. Во мне сидел гуманитарий, настолько, что даже в учебнике по истории партии я находил какой-то мазохистский интерес. Например, когда нас заставили законспектировать «Манифест коммунистической партии», мой конспект оказался лучшим. Я так хорошо разобрался в «Манифесте», что много позже, в Израиле, это помогло мне с блеском написать семинарскую работу на тему: «Утопичность марксизма». На четвертом курсе мы сдавали научный коммунизм. Лектором был несостоявшийся писатель, отставной полковник и участник Сталинградской битвы Павел Иванович Никитин. Тем, кто вместо экзамена хотел писать реферат, он предложил список возможных рефератов. Кто-то взял тему о реакционной сущности сионизма, а я об «Утопии» Томаса Мора — подальше от марксизма и современности.
О Томасе Море имелась популярная советская книжонка, и ее бы хватило. Но я решил ознакомиться с источником. Оказалось, что единственный экземпляр «Утопии», как и другие дореволюционные, идеологически заряженные издания, хранится в парткобинете (или читальном зале марксизма-ленинизма), под неусыпным оком партийного цербера. Первый раз я без проблем получил книжку у его помощника. Во второй раз я опрометчиво задержался у стеллажей, чтобы посмотреть, что там есть еще интересного. Помню, там стояла книга Сергея Булгакова «Мой путь от марксизма к идеализму». Тут уж цербер подскочил с вопросом: «Кто это вас сюда пустил?» «Утопию» у меня отобрали недочитанной, из парткабинета изгнали. Но и по тому, что я узнал о Море, я понял, что его обезглавили за дело (пошел против короля), хотя к его утопическому коммунизму это отношения не имело.
Военные сборы
На военной кафедре из нас готовили офицеров по проверке ракет 125-го комплекса ПВО, того самого, что израильтяне украли у египтян на Синайском полуострове. Кафедра располагалась в здании бывшей институтской церкви, с которой срезали купол. После зубрежки огромных, на всю стену электронных схем и сдачи экзаменов (подполковник Будовский из национальной солидарности поставил мне «отлично» за путаный ответ), мы после четвертого курса были отправлены на месячные сборы в воинскую часть под Ригой. Там я воочию увидел, как живут солдаты и что они едят. Это было не для слабонервных. Вся часть потешалась, когда нас, маменькиных сынков, учили ходить строем и с песней. Часть стояла в лесу, куда через дыру в заборе мы, случалось, сбегали есть чернику. Более смелые между утренней и вечерней поверкой ездили в Ригу, а кто-то даже уходил на ночь по бабам. После присяги, приставленный к нам майор произнес короткую речь, в которой предположил, что кое-кто из-нас после окончания института будет мобилизован на два года офицерской службы (так тогда делали), а остальные, как он, вздохнув, выразился, «займутся более стоящим делом».
 На военных сборах под Ригой. Л.Лейбович и В.Койфман. 1972.
На военных сборах под Ригой. Л.Лейбович и В.Койфман. 1972.
 В день принятия присяги.
В день принятия присяги.
Американский дядя Лева
Лейб (Лева) Левин, папин брат по матери, после ее смерти в конце 20-х годов ушел из дома в деревне Бронники на Волыни, перешел с контрабандистами границу с Польшей и, подрабатывая в пути, добрался до Соединенных Штатов. Вместо мощенных золотом мостовых его встретила Великая депрессия, которая превратила интеграцию деревенского парня без образования и знания языка в трудное испытание. В то время мой отец проходил срочную службу на реке Уссури, куда от Левы приходили полные жалоб письма на идише. Знавший идиш комиссар полка перед строем зачитывал выдержки из этих писем. «Вот видите, как тяжело живется трудящимся в странах капитала, в то время как боец Сруль Бейзер — равноправный член советского общества, где нет эксплуатации человека человеком».
В 1962 дядя Лева (Louis I. Levine), владелец обувного магазина в Голливуде, прилетел со своей супругой Эдит в Ленинград, остановился в «Астории», пришел к нам в коммуналку и был потрясен той нищетой, в которой жила семья брата, инвалида войны, да еще и члена партии. Он не мог взять в толк, почему партия и государство настолько не ценит своих героев.
Советские граждане боялись контактов с иностранцами как огня, особенно, если они или их родные имели хоть сколько-нибудь ответственную или секретную работу. На рутинный вопрос анкет о родственниках за границей все без колебаний врали: «Нет». В книге Эли Визеля «Евреи молчания» говорится о женщине из Львова, которая отказалась пустить в дом своего родного брата, приехавшего из Франции после долгой разлуки. «В чем я провинился?» — вопрошал, плача, брат. Мой папа не имел отношения ни к должностям, ни к секретам. Наверное, он тоже побаивался, но переписывался и встречался с Левой. Мы даже ходили к ним в гостиницу. Я запомнил рояль в их номере.
Десять лет спустя, когда я уже писал диплом, они приехали снова, на этот раз в сопровождении дочери с зятем. К тому времени мы жили в отдельной квартире (!) — хрущевской распашонке. У нас были телефон, телевизор и ванная с горячей водой. Тут мой дядя обратился к дочери и зятю, преуспевшим либеральным психологу и дантисту, и сказал: «Когда мы десять лет назад вернулись из России и рассказывали вам, как они там живут, вы решили, что мы очерняем СССР. Так вот, оглянитесь, теперь они живут намного лучше, чем тогда».
 Справа американский дядя Лева, его зять, жена и дочь. Слева моя жена Таня, сестра Роза и троюродная сестра Ира. 1972.
Справа американский дядя Лева, его зять, жена и дочь. Слева моя жена Таня, сестра Роза и троюродная сестра Ира. 1972.
Мы, конечно, были очень рады визиту американских родственников, но я избегал с ними фотографироваться, опасался неприятностей в институте, когда желанный диплом был уже почти в руках. Все же часть моего лица запечатлелась на одном из сделанных тогда снимков. Дядя умер от сердечного приступа три года спустя, выступая на фандрайзинговом собрании в пользу Израиля. На его надгробье выбили изречение Герцля о любви к своему народу и верности самому себе.
 На кладбище Mount of Olive. Los Angeles.
На кладбище Mount of Olive. Los Angeles.
Дипломная работа, или «игра в бисер»
Трудности у меня начались уже на стадии выбора места для написания диплома. По существовавшей практике, предприятие, на котором выпускник писал диплом, оставляло его потом у себя на работу. Имея это в виду, старший научный сотрудник нашей кафедры (фамилию не помню, но помню, что он был русским) попытался устроить меня на дипломную практику во Всесоюзный институт Электромашиностроения, находившийся в великокняжеском дворце на Неве, по соседству с Институтом востоковедения. Там, под началом его коллеги, решались интересные задачки и, в принципе, можно было рассчитывать на диссертацию. Когда, с направлением от Кафедры я появился в отделе кадров института, кадровица изменилась в лице. Она выставила меня в коридор, а сама начала кому-то звонить и орать: «Кого вы нам прислали?» Орала она долго, я устал ждать. Затем позвала в кабинет и тоном выговора объяснила, что мне здесь места нет и не будет, и что под видом написания диплома мне к ним пролезть не удастся. Я вернулся к пославшему меня научному сотруднику. Он все понял и почему-то извинился. После этого Катковник направил меня писать диплом в близлежащий Агрофизический институт. Замдиректора там был выпускник физмеха Ратмир Александрович Полуэктов, а руководителем моей дипломной работы — Лев Гинзбург, вскоре эмигрировавший в США. Катковник сразу предупредил, что потому-то и легко меня туда возьмут на дипломную практику, что остаться там работать нет никаких шансов. Тема моего диплома была абстрактной и никому не нужной, этакая «игра в бисер», — «Исследование устойчивых состояний математических моделей биологических сообществ». Эти модели придумывал сам Лева. Мой диплом оценили на отлично, однако, как и ожидалось, это ничего мне не дало.
Распределение
Тесть и нафталиновый мундир
К распределению я был уже женатым мужчиной. Моя жена Татьяна Грингот, выпускница параллельного класса 239-й школы и студентка кафедры гидро- и аэродинамики физмеха, везде была отличницей. Она получила серебряную медаль в школе и красный диплом в Политехническом. Руководил ее дипломом сам Лойцянский. Вот тут-то и выяснилось, что на работу Таню никто брать не хочет. Танин папа, адвокат Виктор Александрович, полковник юстиции в отставке, не мог пережить того факта, что его единственная дочь останется без работы, потому что еврейка, и это после того, как он верой и правдой отслужил советской власти, в тридцатые годы был парторгом юридического института, затем зам. пред. Военного трибунала Прибалтики во время ее советизации, прослужил всю войну замом и председателем военных трибуналов разных фронтов, высаживался вместе с Брежневым на Малую землю, и прочее и прочее. Виктор Александрович достал из шкафа свой старый, пропахший нафталином, сталинского покроя мундир с орденами, который повис на его сморщенном теле, как на вешалке, и отправился в Москву на прием к бывшему подчиненному, дослужившемуся к тому времени до заместителя председателя Военной коллегии Верховного суда СССР. Генерал не удивился, позвонил кому-то в Ленинград, и Таню устроили в секретное Особое конструкторское бюро технической кибернетики Е.И. Юревича при Политехнике, куда она и не мечтала попасть. Впоследствии опыт работы там помог ей, когда она устраивалась на предприятие авиационной промышленности в Израиле.
Четверть века спустя, будучи в командировке в Питере, я зашел к старому товарищу, сделавшему к тому времени серьезную карьеру в том же КБ. За столом его жена, тоже одноклассница, кормя кота красной икрой, дружески заметила: «Ведь это неправда, что евреев не принимали на работу при советской власти». Товарищ утвердительно кивнул: «Вот и твою Таню к нам распределили. И вообще евреев в нашем КБ много работало, кого ни возьми».
Как я стал программистом
А тогда бывший подчиненный тестя подыскал и мне место — в ЦНИИ экономики и информатики судостроения «Румб». Там мои знания в области механики и систем автоматического управления были ни к чему. Но на всех предприятиях тогда устанавливали вычислительные машины серии ЕС, содранной с IBM 360, а вот программистов подготовили мало. Поэтому сотни, если не тысячи ленинградских евреев, которым, как и мне, закрыли возможность работать по специальности, срочно переучивались на программистов, сами учили Фортран и Кобол, разбирались в матобеспечении, которое даже еще не было переведено с английского языка, в общем выполняли, как и в древнем Египте, работу, которую неевреи делать не очень-то желали. Пришлось и мне стать программистом. Это длилось 13 лет.
Михаэль Бейзер
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2