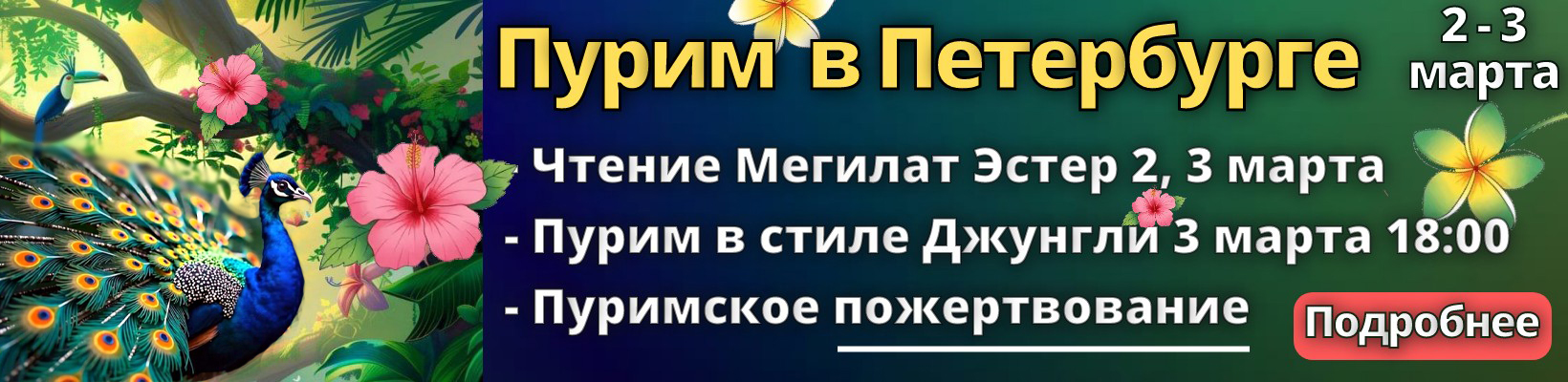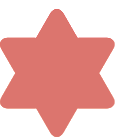29.01.2015
Банальность ада и чудо спасения
Банальность ада и чудо спасения
Выставка «Освенцим. Освобожденные и освободители» в Военно-медицинском музее, открывшаяся в конце января, – по существу, дополненный и расширенный вариант постоянно действующей в этом музее выставки.
В основе ее – материалы врача Маргариты Александровны Жилинской, начальницы полевого госпиталя, действовавшего с апреля по июль 1945 года на территории бывшего Освенцима – Аушвица. Это был уже третий по счету госпиталь, в котором спасали жизни выживших узников концлагеря. В госпитале было ровно 700 пациентов. Большинство – евреи. И большинство удалось спасти.
А вот точного числа освобожденных Красной Армией узников не знает никто. У историков очень разные цифры: от 2200 до 7000. И это несмотря на то, что на каждого заключенного, не отправленного немедленно в газовую камеру, составлялись персональные дела. На выставке образцы таких «дел» – из Освенцима и из Майданека. А тех, кого сразу вели в смертоносный «душ», все-таки учитывали в пофамильном списке, распределяя по категориям. Самые распространенные категории «A» и «B» – евреи.
Конечно, разночтения у историков возникают из-за различий в методике подсчета. Было три лагеря – собственно Освенцим, Биркенау и Моновиц, а кроме того – отдельные «филиалы», то, что в ГУЛАГе назвали бы «командировками». Были заключенные, отправленные в «марш смерти», но сумевшие укрыться. И все-таки в этом видится некий символ. Дьявольская бюрократия, при всей своей изощренности, дает сбой, и это – надежда на спасение от нее. Освободившись от рабства, от смерти, от смертного страха, человек обретает себя, свою самость, свое имя. Один из центральных экспонатов выставки – фотографии выживших узников, обнаженных, истощенных. И все – названы по именам.
Мозес Арфштейн, Эли Бекти, Имре Шарфштейн, Палко Блюм….
Судя по именам, все евреи. В большой части – венгерские, и это тоже понятно: шансы дожить до освобождения имели только те, кто оказался в концлагере в 1944 году, а именно в это время началось «окончательное решение еврейского вопроса» в Венгрии.
Что они перенесли? Экспозиция построена так, что упор делается не на ужасах, а на тривиальности, обыденности, «банальности зла», по выражению философа Ханы Арендт. Вот личные вещи заключенных: ложка, образец муки и хлеба, выдававшихся в лагере, даже самодельная мыльница. И рядом – прибор для переливания крови. Да, мы знаем, что заключенных (в том числе детей) использовали как доноров, но вот от этого прибора рядом с мыльницей – особенно идут мурашки по коже. Медицинские инструменты. Что ими делали? Страшно вообразить. Впрочем, следующий экспонат облегчает работу воображения: вот фотографии заключенных, повергшихся экспериментальной кастрации. Они тоже названы по именам: Давид Сурес, Яков Скурник… Рисунки, втайне выполненные художником-заключенным. Вырванные зубы в золотых коронках. Мука из костей. И наконец, флакон от газа: «ZICLON B».
 Среди уникальных материалов, хранящихся в музее (и присоединенных устроителями выставки к фонду Жилинской), – «Письмо к потомкам» Залмана Градовского и тетрадь с первой частью его знаменитых записок. Записок члена зондер-команды, выполнявшего в лагере самую страшную работу – извлечение из газовых камер трупов, их кремацию… и погибшего во время восстания, вместе со своими товарищами кровью искупив свое косвенное сообщничество в уничтожении соплеменников. Вторая часть записок Градовского находится в музее Яд-Вашем в Иерусалиме. Конечно, этот текст, в котором автор пытается сентиментальной патетикой скрасить беспримесный ад своего опыта, давно опубликован в переводе. И все-таки вид этих страниц с расплывшимся текстом на идише, вид разорванной металлической гильзы, в которой они были сохранены на территории лагеря, производит впечатление жуткой подлинности, достоверности.
Среди уникальных материалов, хранящихся в музее (и присоединенных устроителями выставки к фонду Жилинской), – «Письмо к потомкам» Залмана Градовского и тетрадь с первой частью его знаменитых записок. Записок члена зондер-команды, выполнявшего в лагере самую страшную работу – извлечение из газовых камер трупов, их кремацию… и погибшего во время восстания, вместе со своими товарищами кровью искупив свое косвенное сообщничество в уничтожении соплеменников. Вторая часть записок Градовского находится в музее Яд-Вашем в Иерусалиме. Конечно, этот текст, в котором автор пытается сентиментальной патетикой скрасить беспримесный ад своего опыта, давно опубликован в переводе. И все-таки вид этих страниц с расплывшимся текстом на идише, вид разорванной металлической гильзы, в которой они были сохранены на территории лагеря, производит впечатление жуткой подлинности, достоверности.
И еще один экспонат – на мой взгляд, самый страшный. Фотокарикатуры на истощенных, дрожащих заключенных, выполненные эсэсовцами… Развлекались ребята. Скрашивали себе рутинную службу.

На фоне этой нечеловеческой «рутины» спасение, принесенное Красной Армией (в тылу у которой, как все мы знаем, были свои концлагеря), и работа таких благородных врачей, как Жилинская, кажутся чудом, дарованным свыше. Но на самом деле это была просто-напросто нормальная человеческая жизнь, нормальный труд, нормальное выполнение долга. Неслучайно даже фотографии ее толком не сохранилось – лишь групповое фото, где она – с краю, а в центре – посещающий лагерь настоятель Кентерберийского Собора Хьюлет Джонсон. О ее послевоенной жизни почти ничего не известно. В 1952 защитила докторскую диссертацию. Работала, потом вышла на пенсию. Даже дата ее смерти (1982) стала известна совсем недавно.

 Председатель петербургской еврейской общины М. Д. Грубарг и начальник научно-экспозиционного отдела Военно -медицинского музея Е.Е. Колчин Председатель петербургской еврейской общины М. Д. Грубарг и начальник научно-экспозиционного отдела Военно -медицинского музея Е.Е. Колчин |
Средоточие выставки – светильник с текстом 86 псалма: «…Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну». Может быть, менее уместно музыкальное сопровождение кинохроники – «Ave Maria» Шуберта. Религиозный опыт заключенных Освенцима, в основном евреев, передавала иная музыка – да и у освободителей-красноармейцев были другие песни. Но если не это, то что-то другое нужно было противопоставить отчаянию псалма. Ведь выставка – не только об ужасе уничтожения и жестокости, но и о жизни, о ее победе…
Валерий Шубинский
Выставка «Освенцим. Освобожденные и освободители» в Военно-медицинском музее (Лазаретный переулок, дом 2. ст. м. "Звенигородская", "Технологический институт", "Садовая") открыта для посетителей с понедельника по пятницу 11:00 – 17:00
Побывали на выставке? Поделитесь впечатлениями в комментариях к этой статье!
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2