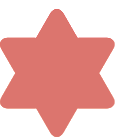08.05.2017
Щепки красного дерева
Эти воспоминания о блокаде нам прислала жительница Петербурга Нина Рябушкина. Она записала их со слов своей мамы. Получились не просто мемуары – высокохудожественное и при этом абсолютно достоверное повествование. Представляем его на суд наших читателей.
Эту повесть должна была написать моя мама, блокадное дитя, но она все откладывала – не было сил, болела, хотя помнила мама многое и очень ярко. И мы уже решили, что записывать и редактировать буду я. У меня еще и компьютера своего не было, друзья обещали помочь. Где-то в январе–феврале 2004 года мама сказала: «Давай весной засядем за работу – мне к весне полегчает». 13 апреля 2004 года мама умерла. Повесть я написала позже, по следам маминых рассказов. В сотый раз берусь за эти заметки... тяжело. С самого младенчества я слышала о блокаде. Это стало и моей памятью, наверное, генетической. Бабушка ругала за недоеденные куски. Хлеб не выбрасывали – это же ХЛЕБ! Мама боялась низко летящих самолетов – обычных «кукурузников», которые посыпали гипсом луга в Александровке и Горской для мелиорации. Тетя Неля на таком же «кукурузнике» летала однажды в дальний вепсский колхоз.
Тетка была инженером и к технике относилась с пониманием. А мама – «лирик», она долго жила с этим детским ужасом даже от праздничных салютов иногда вздрагивала.
 Моя мама Валя до войны
Моя мама Валя до войны
Варюшка (племянница автора – ред.) спрашивает:
– А ты была во время блокады?
Я объясняю, что родилась двадцать лет спустя.
– А тетя Люда?
Я горько усмехаюсь. Люда родилась в 1968 году, когда советские войска вторглись в Чехословакию.
Еще Варькин вопрос: «А что делал Ленин во время войны?» Надо бы рассказать ей про эвакуацию мумии вождя из Москвы в Тюмень. Отвечаю на вопросы и рассказываю сама. Пока что у Варьки странное представление о времени. Собственно говоря, для ее восьми лет это нормально: что Гитлер, что Наполеон давно жили.
Троллейбусный аттракцион
Рассказываю о довоенной жизни. Машин было очень мало, и почти все государственные. Такая старая «эмка» у Люды во дворе стоит. Объясняю, что на черной «эмке» могли увезти навсегда. Так из маминого двора увезли соседа инженера Истомина, а жена его с детьми уезжала на вокзал в ссылку на старинке на повозке. До войны на лошадях и по мирным делам часто ездили. На дачу или же мебель перевозили. На работу ездили на трамвае. Были старые такие вагончики – красные с желтым, деревянные скамейки внутри. И звоночек. В кабине сидел не водитель и уж точно не машинист, а вагоновожатый. Дедушка ездил на трамвае на Охту – в тридесятое царство, на Партизанскую улицу. Бабушка училась в Техноложке, потом работала на «Красном химике», а жили мои предки на Фурштатской (она же улица Петра Лаврова). За несколько лет до войны появились троллейбусы. Дедушка повез дочек покататься, и пятилетняя Валя так и думала, что троллейбус – это аттракцион вроде карусели. И телевизоров не было. Говорили, какие-то первые огромные ящики, называемые «телевизионными приемниками», уже появились, но дома ни у кого их не было. Даже радиоприемники были не у всех, даже патефоны. У моих предков стоял только черный ящичек – репродуктор. Он звучал всю блокаду, и мама запомнила выступления Ольги Берггольц, Лазаря Маграчева и голос актрисы Марии Григорьевны Петровой. Сейчас Варька слушает сказки Андерсена в исполнении Петровой – архивные записи, отреставрированные и оцифрованные. Компьютеров тоже не было и калькуляторов. «Калькулятором» называлась низшая должность в столовской бухгалтерии, вроде счетовода. А считали тогда на деревянных счетах. Инженеры и студенты пользовались логарифмическими линейками. У нас такая была в моем детстве – памятная, трофейная, немецкая, потом я ее в школу носила и потеряла. Одежду тогда чаще шили сами или у портнихи, чем покупали. Пальто и костюмы перелицовывали, иногда и «на третью сторону». Моих предков за умеренную плату обшивала соседка Вера Петровна не столько для заработка, сколько из любви к искусству. Муж ее был офицером, вроде бы, интендантом, а может быть и кем-то иным, он участвовал в осенней польской кампании 1939 года и, разумеется, вернулся с Западной Украины не с пустыми чемоданами.
Мало кто жил в отдельных квартирах. И у моих предков были соседи семья Б.: военный Николай Николаевич, портниха Вера Петровна и Вовка; добрый доктор Елизавета Михайловна из семьи священника; Мария Александровна, о чьей профессии Валя ничего не знала, но взрослые ее недолюбливали и почему-то опасались. В семье Г. было пять человек – мой дедушка Георгий (домашнее имя Жорж), его вторая жена Софья – моя бабушка, ее мама Мария Семеновна (урожденная Меня Шмулевна) – моя прабабушка и две дочки, для всех родные сестры, а на самом деле – двоюродные.
 Мой дедушка Геогий Зиновьевич
Мой дедушка Геогий Зиновьевич  Моя бабушка Софья Владимировна
Моя бабушка Софья Владимировна  Мария Семеновна (Меня Шмулевна), моя прабабушка
Мария Семеновна (Меня Шмулевна), моя прабабушка Моя тетя Неля
Моя тетя Неля  Моей будущей маме 7 лет. 1940 год
Моей будущей маме 7 лет. 1940 год
Тут была страшная семейная тайна, но, несмотря на то, что дело было в 1930–е годы, причина была не в репрессиях, а в другом. Тетя осталась без матери в младенчестве, ее мать Анна, сестра моей бабушки Софьи, после родов впала в тяжелую депрессию и повесилась. Не исключено, что она страдала маниакально–депрессивным психозом. Этот же диагноз ставили моей бабушке. Но речь сейчас пойдет уже о военном времени.
«Спасительная» блокада
Мама говорила: «Это было в голод» – и все понимали, когда.
– Он умер в первую зиму – тоже все понятно.
– В декабре – ясно, что в первом декабре блокады
«Зима», «голод» – безошибочные датировки, хотя было немало в нашей истории и зим, и голода.
Началась война, и семья Г. не поехала в Бердянск. Не удалось отправить хилых детишек на курорт, где целебные грязи, море и солнце. Там дешевле, чем в Крыму, и не надо быть никому обязанными, как у одесских родичей. Но вот не поехали, и слава Б-гу, что не отправились на юг где-нибудь в середине июня. Да-да, слава Б-гу! Как знать, иногда и эвакуация губила, а не спасала. В блокадном Ленинграде выжить иной раз было реальнее, чем в оккупации. Все же в Ленинграде спасали многих детей.
А некоторые наши родственники не успели эвакуироваться из осажденной Одессы и погибли. Их расстреляли нацисты: и черноглазую красавицу Аннету, и ее мужа – председателя румынского колхоза. Он мог спастись, но остался с женой в гетто. И сестру Аннеты, беленькую Фриду, и стариков родителей тети Жанны. Сама тетя Жанна эвакуировалась на пароходе, в итоге попала в Среднюю Азию, а ее грудной младенец на том самом пароходе умер.
Прихожу к страшному умозаключению, вспомнив свидетельства Марии Рольникайте, Камы Гинкаса, Александра Гельмана – у моей мамы было счастливое детство!
 Сестры Аннета и Фрида – тетушки моей мамы. Убиты в одесском гетто
Сестры Аннета и Фрида – тетушки моей мамы. Убиты в одесском гетто
Дедушкина война
В начале войны дедушке было 42 года. Он работал на химико-пищевом комбинате чуть ли не главным инженером, у него бронь. В то время 42 года возраст солидный. (Так странно меняется восприятие возраста в разных поколениях! 48-летний Мандельштам старик, 47-летний Илья Кормильцев молодой).
У деда неважное зрение. Он уходит в ополчение добровольцем. Начал войну рядовым, закончил инженер-капитаном.
 Дедушка инженер-капитан
Дедушка инженер-капитан
Служил мой дед в автобате. Начал на Ладожской трассе, потом Волховский фронт соединился с Ленинградским, дальше на Запад до Кенигсберга и на Восток в Маньчжурию, на «войну после войны», о которой мало что известно до сих пор. Дедушка неохотно рассказывал о войне – тяжело вспоминать. Сохранились его фотографии 1943 года с новенькими «старлеевскими» погонами, сохранились Орден Красной Звезды и медали, главная из которых – «За оборону Ленинграда».
 Дедушкин Орден
Дедушкин Орден  Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За оборону Ленинграда»
А вот писем почему-то не сохранилось. Мама объясняла такую совсем не романтическую штуку – у дедушки с бабушкой в конце войны были сложные отношения, и семья только ради детей все–таки сохранилась. А потом уже как-то все улеглось, и прожили они вместе до 1974 года, когда дедушка умер от рака.
Зитозя и молоко
Первое время жили почти сытно. Очереди за продуктами удлинились, это да. Особых запасов почти ни у кого не было: и хранить в коммуналках особенно негде, и само накопление запасов могло быть расценено как паника. Помните ведь, наверное, что войну собирались победоносно завершить за два – три месяца на вражеской территории? Взрослые заняты круглые сутки на работе, на рытье окопов, дежурствах в госпиталях и на крышах. Во дворе вся публика от трех до пятнадцати уже не водит хороводы и не поет «А мы просо сеяли».
 Мамин двор
Мамин двор
Какое там просо! Никто еще и не думает о том, что всего три–четыре месяца спустя это сказочное просо в виде драгоценных крупиц пшена станет на вес золота. Малыши еще играют каучуковыми «арабскими» мячиками в «штандер» и «школу мячика», Валя учит кукол и плюшевых зверей читать. Скоро придется поменять на крохи муки или крупы и кукол, и мячики, и елочные игрушки. И вот в это относительно сытое время появилась во дворе кошка. Серая в полосочку, обычная приблудная кошка. Мальчишки выдумали ей непонятное имя «Зитозя». Ребята подкармливали Зитозю булкой, размоченной в молоке. Но вот стало хуже с молоком, и какая-то разумная старшая девочка посоветовала молоко разбавлять, а вместо булки размачивать хлебные корочки. А там наступила осень, и кошка Зитозя пропала. Продлила она чью-то жизнь, став добычей блокадного «охотника», или же стала жертвой хищных блокадных крыс, или под развалинами погибла, никто о том не расскажет. Всех домашних животных ждала печальная участь – их съедали. Я знаю только два иных случая: с собакой Леди и черепахой Климочкой. О черепахе чуть позже, а о собаках и кошках расскажу сейчас. В мамином дворе у одной взрослой девушки по имени Гага жила овчарка. На овчарку сначала выдали особую продуктовую карточку, велели собаку кормить и беречь, а вскоре, где-то осенью, забрали в армию. В другой семье жил огромный рыжий сибирский кот, к началу войны ему было уже 18 лет. В его шерсти рука утопала. Кота выносили на солнышко, а позже наверняка съели. Был еще пес Денсик – лаечка. Жил он в семье славной и бедной. Мама, папа и две девочки школьницы с красивыми именами Франческа и Бьянка. Девочки учились музыке, их мама до войны сама проводила экскурсии по городу для всех дворовых детей. А жили бедно, и Франческа носила пальто, сшитое из пледа. Они голодать начали раньше многих. Денсика, скорее всего, съели соседи, сами хозяева не смогли сделать это. Родители девочек умерли от дистрофии ближе к весне. Девочки выжили, весной эвакуировались и перебрались к родственникам в Москву. В конце войны Франческа приехала за уцелевшими вещами и обнаружила, что соседи их ограбили, а из рояля сколотили кухонный стол. А Леди, пушистый шпиц, жила у одинокой старушки – то ли немки, то ли польки, которая, видимо, сумела сохранить какие-то старинные вещи и меняла их первой зимой. А весной за ней пришли. Старушку выслали за Ладогу, из блокады в ГУЛАГ. И такое бывало. Что случилось с собачкой, разумеется, неизвестно.
Орнамент из газеты
В первые военные месяцы быт людей изменился, но дети пока не ощутили всего ужаса происходящей катастрофы. Забирались на чердак. Старшие ребята поднимали туда ведра и мешки с песком, обмазывали деревянные балки известковым молоком. Пахло раскаленным ржавым железом, пылью, сквозь щели пробивались острые и яркие солнечные лучи. Можно было выбраться на крышу и загорать. Взрослые не мешали, даже дворник Николай Иванович не ругался, не до того было. Потом, осенью, взрослые и старшие ребята гасили «зажигалки» этим самым песком. Валя Г. не дежурила на крыше, ей было восемь лет, и осенью бабушка, разумеется, не выпускала внучек из убежища во время бомбежек. А потом наступили морозы, замерзли и полопались канализационные трубы в подвале–газоубежище, и люди перестали покидать свои комнаты во время тревог.
«Уж лучше всем сразу погибнуть от бомбы!» – говорила бабушка Мария Семеновна.
Не было у нее сил, чтобы выйти лишний раз из дому. Неля кое-как еще выбиралась и в булочную, и даже за водой в дальний путь на Фонтанку напротив Летнего Сада в начале улицы Чайковского. А Валя слегла. Это наступил ГОЛОД. В начале войны было такое знаменитое средство защиты – бумажные полоски на оконных стеклах. Многие клеили классические косые кресты, а Франческа, Бьянка и их мама вырезали из газетной бумаги орнаменты и приклеивали их на стекла. Вскоре оказалось, что от взрывной волны не только стекла разбиваются, но и рамы вылетают. Так и у моих предков в комнате случилось, и зимой перебрались они в пустую комнату соседки Елизаветы Михайловны, ушедшей на фронт. А крахмальный клейстер...что поделать, потрачен был впустую, а ведь могли приберечь. Что еще делали ребята в начале войны? Собирали металлолом в фонд обороны. Кажется, именно туда отправился в свой последний путь наш семейный самовар. Он и до войны частенько куда-нибудь отправлялся: то на съемную дачу, то в ломбард. В ломбард еще сдавали на лето дедушкину шубу. Валя спрашивала: «А зачем шубу в ломбард отвозят?»
Ей отвечали: «Чтобы моль не съела!»
– А самовар?
Ох, уж эти сообразительные, «развитые», как тогда говорили, дети!
На подвиг со слезами
Штрихи маминых осенних воспоминаний остры, как лучинки, отколотые детской рукой от драгоценного соснового полена. Сентябрь 1941 года. Воскресенский проспект, он же проспект Чернышевского (в быту многие улицы называют по старинке). Трамвайная линия. По мостовой, прямо по рельсам, идут строем комсомольцы–добровольцы, им лет по 18–20, кому-то еще 17, некоторые плачут, даже мальчики! Валю это потрясло. Как же так, ведь они большие и храбрые, они идут на войну совершать подвиги, почему они плачут? И мамы плачут, и сестренки, и невесты, у кого они уже есть. А в строю и мальчики, и девочки. Они большие! Они могут идти на войну, счастливые! После войны Валя никого из них не встретила ни разу. Может быть, конечно же, что за четыре года они возмужали и изменились до неузнаваемости или переехали в другие районы? Нет. Много лет спустя моя мама не могла без слез слушать песни и читать военную прозу Булата Окуджавы.
Куртизанки и партизанки
При тревогах дети собирались в темной комнате у одних соседей на первом этаже, они занимали отдельную квартиру, бывшую дворницкую. Там зажигали сначала свечу, потом коптилку. При этом свете удавалось читать и играть в настольные игры: лото, детское домино и какую-то особенную «вертолину». В убежище восьмилетняя Валя тоже читала все, что попадалось, от газеты «Ленинградская правда» и листовок санпросвета до Мопассана. Правда, она не все понимала у французского классика – куртизанок считала партизанками, но вот храбрость Пышки, разумеется, одобряла. Многим ленинградцам книги спасли жизнь. Я не говорю сейчас о пособиях по первой медицинской помощи и съедобным дикорастущим растениям, хотя и это было необходимо. Спасли жизнь в первую очередь толстые книги, даже собрание сочинений Ленина, они дольше горели в «буржуйке». Но уходили в печку и детские книжки, зачитанные до дыр, бережно подклеенные клейстером или казеиновым клеем в наивное довоенное время, когда не задумывались о том, что крахмал – это роскошная сытная пища, а казеин, получаемый из творога, деликатес. Сгорели журналы «ЧиЖ» и «ЕЖ». Сорок четыре веселых чижа сгорели вместе с кошкой, которая порезала лапы, и вместе с таксиком и бульдогом, которые делили вкусную говяжью кость. Их создатель Даниил Хармс умер от истощения в тюремной больнице. Умерла в блокадном Ленинграде Дина Бродская – автор «Марийкиного детства». Маленькие читатели, разумеется, не думали о судьбе писателей. Они сами голодали и умирали. Том Сойер и Гекльберри Финн в старинных изданиях «Золотой библиотеки», Дик Сэнд и капитан Грант, Дядя Том, Чук и Гек, Леля и Оська, Марийка. Сколько книг было прочитано и почти что выучено наизусть и сожжено! У нас и у тети Гали с тетей Теей дома пережили блокаду однотомник Пушкина 1937 года, старинный Жуковский, подаренный еще моему дедушке за успехи в учебе, Джек Лондон и Брет Гарт и трогательная детская книга 1923 года «Лалли и Звездочка». Вот, пожалуй, и все. Уже в 1942 году Неля за отличную учебу получила в подарок в школе второй том Лермонтова 1941 года издания. Первый том этого же собрания мы купили в букинистическом много лет спустя. А еще я храню две книги, изданные в блокадном Ленинграде: «От костров до радио» (автор Я. Шур) – история связи для детей и «Убей убийцу!» – сборник документов о жертвах бомбардировок и артобстрелов 1944 года издания.
«Послушай, мишка!»
Я нашла три листка формата А4 среди маминых бумаг и вспомнила, что где-то в начале 2000–х годов мама заполняла анкету о блокадном чтении, по–моему, для музея «А музы не молчали». Черновик анкеты и записи остались у мамы, я использовала их при работе над этой повестью. «...Сначала все было похоже на военную игру. Было начало июля. Мы собирали бутылки для зажигательной смеси и металлолом, причем в лом пошла свинцовая сетка от мозаичного зеркала, валявшаяся с давних времен на чердаке. Всем командовал старший мальчик лет 15, он себя назвал «Тимуром». Книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» и «Комендант снежной крепости» читали все мы. Но вскоре стало не до игр. Газоубежище (бетонированный подвал в доме напротив) стало пристанищем для детей и взрослых из нашего и соседних домов в осенние месяцы 1941 года. Мы отнесли туда свои детские книжки, потому что на столе в убежище лежали только книги для взрослых. Хотя я в свои 8 лет прочитала там мопассановскую «Пышку», рассказы Чехова и «Шел солдат с фронта» Валентина Катаева. Далеко не все в этих книгах было понятно. Читать приходилось при тусклом свете синей лампочки, висевшей где-то высоко под потолком. Маленькие плакали, просились на улицу. Надо заметить, что на стенах висели «Правила поведения во время тревоги», военные плакаты и уцелевшие с «до войны» листовки санпросвета про то, как уберечься от инфекционных болезней. Запомнился ставший неактуальным плакат для детей с изображением несчастного медвежонка:
«Послушай, мишка!
Не кушай лишка!
Живот разболится,
У кого будешь лечиться?»
Увы, холод, голод и сырость выжили нас из газоубежища еще в конце октября – начале ноября. Город бомбили целыми днями и ночами, но мы потом уже не хотели ходить в убежище. Дома у меня говорили: «Лучше умереть сразу от бомбы, чем мучиться от голода».
Дома, при свете коптилки и отблесков огня от «буржуйки» я читала и перечитывала любимые книги. Голод отступал ненадолго, отвлечься удавалось плохо – в книгах герои непременно ели и пили.
А у нас воду носили мама и сестрица моя от Невы, а потом снег с бульвара растапливали. А еды было «125 блокадных грамм». Весной нас собирали по домам наши золотые учителя, сами ослабевшие от голода. Они приводили нас в школу, чтобы поддержать 3–разовым питанием, и возвращали к жизни.
Очень хотелось есть, но, когда мы ожили, стали интересоваться уроками и читать книги. Мы обменивались своими книгами, а еще была школьная библиотека, которой заведовала влюбленная в книги Александра Григорьевна Бальмонт (ударение в своей фамилии Александра Григорьевна ставила на первом слоге – ей было виднее, ее муж приходился знаменитому поэту родным братом). Она умела подбирать книги для каждого читающего у нее школьника по интересам и уровню развития.
 Томик Пушкина
Томик Пушкина
Рюкзаки из наволочек
Многие уже в июле эвакуировались. Валю и Нелю тоже стали собирать в дорогу. Бабушка сшила внучкам рюкзачки из наволочек, закрепила лямки на деревянных катушках, но почему-то эвакуация сорвалась. В первую летнюю эвакуацию вывозили в основном малышей с детскими садами (тогда их называли «очагами»). Увозили под Старую Руссу на дачных поездах. Говорили, что это всего на два–три месяца. Дети ехали в белых панамках с рюкзачками из наволочек, на рюкзачках пришит «ярлык» из белой ткани с пометками, написанными химическим карандашом: имя, возраст, ленинградский адрес. Кого-то из этих малышей сумели отыскать и вернуть домой к маме, но, увы, это случалось редко. Почти все эти крохи погибли по дороге под бомбежками и обстрелами – эшелоны подвергались целенаправленным атакам люфтваффе. Осенью и зимой эвакуироваться тоже не удалось, а летняя эвакуация на Северный Кавказ отменилась, потому что Неля подцепила брюшной тиф, бабушка Мария Семеновна тоже с чем-то угодила в больницу, а Валя даже провела сколько-то времени в детском доме. Так и остались в блокаде. И уцелели.
Судьба
Когда-то до войны 15-летнюю Лушу привела в дом к моим предкам ее тетка Нюра Леонова. Дом – это громко сказано: 24-метровая угловая комната на пятерых, одна стена сырая и покрывается плесенью. А в квартире еще три семьи. Все готовят на примусах – дрова дороги, и плиту не топят. На этой самой коммунальной кухне моя прабабушка Мария Семеновна научила Лушу готовить «городские» блюда. Луша стала присматривать за девочками и помогать по хозяйству. Она вступила в профсоюз домработниц (был и такой), отправилась учиться на ликбез. Луша учила Валю и Нелю деревенским частушкам, загадкам, играм. Няня и воспитанницы вместе читали «взрослый» букварь, и 4–летняя Валя опережала Лушу. А летом Луша ездила в деревню и привозила лесные орехи. Вскоре Луша превратилась из колхозной девочки в юную горожанку, стала одеваться по–городскому, остригла косу и сделала, кажется, шестимесячную завивку. Грамотная, осмелевшая, сильная, она устроилась на Кушелевский хлебозавод. Осенью сорок первого Луша забежала к бывшим своим воспитанницам попрощаться перед отъездом на фронт. Она принесла мешочек сухарей. На фронте она была минером и прошла всю войну без единой царапины. А в поезде по дороге домой Луша погибла – ей на голову обрушилась полка. Судьба...
Шелковые чулочки
Осень. Опечатывают комнату соседки Веры Петровны. Сама Вера Петровна вместе с Вовкой в костромской деревне, уехала на лето за неделю до войны, да и застряла, а Николай Николаевич в армии. Управдомша или председатель домкома (не помню я ее должность) Нюра Леонова прихватывает туфельки–лодочки, еще какие-то вещички. Вместе с ней почему-то Луша, тогда работавшая на хлебозаводе. Нюра сует опешившей племяннице вещи: «Бери! Не все нашим проституточкам в шелковых чулочках гулять!» Восьмилетняя Валя с неприязнью запомнила эту сцену. Она поняла, что Нюра украла. А смысл слова, не по делу брошенного Нюрой, Валя поняла несколько позже. Валя и Мопассана в бомбоубежище читала, не понимая этого слова. Нюра Леонова – жена соседа по двору инженера Х. Сам он, возможно, из «бывших» – из буржуазной или даже дворянской семьи, но женился на пролетарке. Такие мезальянсы встречались в первые послереволюционные годы. Говорят, кого-то это и спасало, зачастую муж даже брал фамилию жены взамен своей «благородной». Был ли счастлив с Нюрой ее супруг, не знаю. Он вообще остался в тени. Моя мама знала о нем мало. Сосед этот не относился к числу близких или друзей, а дедушка мой вообще опасался лишних случайных знакомых, больших компаний, всего того, что могло неожиданно обернуться тем ужасом, о котором тогда говорили шепотом или молчали, боясь даже с родными откровенничать. Ведь бывший муж тети Гали, веселый гуляка дядя Витя, сел «за язык». Эти разговоры еще до войны случайно подслушала маленькая Валя и подумала, что дядя Витя непристойно ругался. А дело было в том, что где-то как-то на работе ли, с приятелями ли по преферансу рассказал анекдот, и вернулся почти двадцать лет спустя.
А Нюра Леонова была совсем простая, грубая баба, деревенская, малограмотная, но при этом партийная. Одно время она работала то ли управдомом, то ли кем-то в этом духе. Носила она пиджак и платок, которым повязывалась по самые брови. До войны моя бабушка ей говорила: «Нюра! Вы же молодая интересная женщина. Зачем Вам этот платок на глаза? Сделайте завивку, Вам пойдет!» Сама бабушка делала до войны и завивку, и маникюр. Валя в раннем детстве называла и клюкву, и мамины красные ногти словом «кляква». У Нюры было двое детей: мальчик постарше, кажется, Вова, и дочка Галя. Галя отставала в развитии, с детьми ей тоже было не всегда легко, ее обижали, и она отвечала агрессией, больно кусалась. В школе оставалась на второй год и попала в единственный тогда интернат для «особых» детей, которых тогда без всяческой политкорректности называли умственно отсталыми. В начале войны Галя и Вова удачно эвакуировались куда-то в Кировскую область, а родители их остались в осажденном городе. Нюра сначала работала все так же в домоуправлении, ругалась, командовала, гоняла мою заболевшую бабушку на рытье окопов. Потом устроилась на Кушелевский хлебозавод. Там шла рабочая карточка, да и так, видимо, что-то сверх того перепадало – крохи, конечно же, тогда и пекари голодали. И однажды случилась беда. Нюра не удержалась и наелась горячего хлеба. Она умерла от заворота кишок. Я дважды побывала с подобной штукой в больнице и представляю себе ее муки. Тогда ведь и морфия не хватало. Мир ее праху...
Шпион–милиционер
В военное время шпионов всегда на два порядка больше бывает, чем в мирное. Вопреки всем законам диалектического материализма, они самозарождаются из слухов, шепотков и всеобщего безумия. Ходили слухи, что поймали тетку «ракетчицу» – мать одной Валиной однокашницы, которая пускала сигнальные ракеты для бомбардировщиков. На самом деле слухи эти не подтвердились, и слава Б–гу, а то несчастную могли и арестовать. Уже после войны контуженый военрук объяснял школьницам, что предвоенный типовой проект Г–образных школьных зданий был якобы создан вредителями, чтобы с самолета враги видели Г и понимали, что это госпиталь, ведь в школах госпиталя размещались. То, что в немецком языке алфавит, вообще-то говоря, иной, военрук не учел. А в сентябре 1941 года дети на бульваре поймали шпиона. Настоящего! Возможно, они даже «ура!» кричали. Идет себе шпион в новенькой униформе, весь с иголочки, такой наглаженный, с чистым подворотничком, с пистолетом в кобуре, а его толпа октябрят с пионерами окружила. Взяли и отвели в домоуправление. Шпион не сопротивлялся и не возражал, испугался, наверное, или осознал, что сопротивление бесполезно. Он достал из кармана милицейское удостоверение и показал управдому. Это новая форма у милиции появилась. И все взрослые почему-то расхохотались, а дети слегка обиделись.
Бой местного значения
Одна красивая, я бы даже сказала роскошная соседка с четвертого этажа уходила на фабрику и оставляла двухлетнюю дочку дома. Летом сорок первого было жарко, и окно эта женщина оставляла открытым. И вот однажды Аллочка забралась на подоконник и села, свесив ножки наружу. Каким чудом старшие девочки увидели это и сумели уговорить малютку спуститься с подоконника в комнату! При этом очень громко кричать было нельзя, чтобы не напугать ребенка, а тихо говорить было бессмысленно. Аллочкина мама работала на кондитерской фабрике и сумела устроить дочку в ясли, где она и пережила блокаду. Кажется, других младенцев к весне в доме не осталось. Сама же Аллочкина мама где-то в августе пострадала – получила не очень тяжелое ранение в голову. Ранило ее осколками бутылки. Весь двор с ужасом наблюдал батальную сцену: крики, визг, звон стекла и кровопролитие. Две дамы не поделили одного кавалера, который вот так посреди войны взял и изменил жене с роскошной соседкой.
О пользе бутылок
Дети с улицы Петра Лаврова уже убедились в эффективности использования бутылок в качестве оружия. Если же обычную бутылку наполнить зажигательной смесью, то можно не то, что вражью голову снести, танк уничтожить! Вот и занялись ребята сбором бутылок в фонд обороны. Маленькие пузырьки от духов и лекарств шли для госпитальных аптек, а емкости покрупнее как раз для зажигательной смеси, удобнее всего была классическая поллитровка. О том, что это оружие назвали «бомбой Молотова», тогда никто не знал. Говорят, что этот термин появился в англоязычной прессе уже во время битвы под Москвой. А я впервые столкнулась с ним в какой-то испаноязычной статье в 1980–е годы, и речь там шла о латиноамериканской городской геррилье.
Два отреза
У Марии Семеновны было трое детей: моя бабушка Соня, ее младшая сестра Аня, которая повесилась в 1930 году, и брат Сема. Сема работал на заводе, закончил рабфак и педагогический институт, стал директором детского дома на Украине. Незадолго до войны Сема, тогда еще холостой, приехал вместе с приятелем Немой (Наумом) в Ленинград. Тогда в больших городах было проще что-то купить, чем в провинции. В длинной очереди в Гостином дворе оба парня купили себе по отрезу костюмной ткани. Купили и оставили: «Мама, пусть у Вас полежит!» А там вскоре перед самой войной обоих призвали в армию. Зимой (или уже в начале весны?) Мария Семеновна сменяла оба отреза на стакан гречневой крупы и сварила жидкую кашу. Руки у нее дрожали от голода, кастрюлька из рук выпала. Валя и Неля собрали кашу до последней крупинки, почему-то мама запомнила, что частицы каши оказались на кружевных занавесочках, которые висели на спинках детских железных кроваток. И вот эту крупу вместе с сажей от буржуйки девочки ели. Как знать, может быть и это спасло им жизнь?
 Дядя Сема, брат моей бабушки. За несколько месяцев до начала войны
Дядя Сема, брат моей бабушки. За несколько месяцев до начала войны
А Сема стал фронтовым связистом и закончил войну под Сталинградом в полевом госпитале. Он отказался от ампутации и остался на своих двоих. Правда, осколки из раненой ноги до конца жизни выходили. А контузия дала неожиданное осложнение астму. Так Сема стал инвалидом войны и все–таки дожил до внуков. О судьбе Немы мама ничего не знала, кроме одного: с войны он не вернулся. Кому в итоге достались костюмы из тех отрезов неизвестно. Да что тогда не меняли? Даже обычные и елочные игрушки то ли на крупу, то ли на дуранду.
Голод
Вся история человечества – это история борьбы с голодом. Об этом можно писать бесконечно. И, наверное, ленинградская блокада – самое ужасное проявление массового голода, хотя, увы, далеко не единственное даже в истории нашей страны. Я думаю, что тут дело в том, что происходила трагедия в замкнутом пространстве, морозной зимой, посреди войны, на берегу славной реки в декорациях питерской архитектуры, при свете коптилок, сделанных из парфюмерных флакончиков, при слабом тепле от «буржуек», в которых сгорали щепки ценных тропических пород дерева. Мои родственники оказались участниками эпизодов и массовых сцен среди миллионов других. В условиях огромной войны и тоталитарной системы, где каждый человек неизбежно был только винтиком или гаечкой, ну, кто-то, может быть, был и шестеренкой, в этих условиях обострялись человеческие чувства, свойства, черты характера, неформальные взаимоотношения. Человеческая находчивость и изобретательность продлевала жизнь кому-то на часы военного дня, кому-то на десятилетия. Часто спасала удача, стечение немыслимых, маловероятных и несочетаемых обстоятельств.
Поздней осенью моя бабушка Соня (она не эвакуировалась с заводом и осталась временно безработной с иждивенческой карточкой, на рытье окопов надорвалась, болела) отправлялась с кем-то из соседок на край города, в поля, к самой линии фронта за хряпой – промерзшими капустными листьями. Хряпу солили и варили из нее серые щи. Дома был желатин, из него варили студень с солью и перцем. Потом студень с теми же приправами варили из столярного клея, а моя бабушка Соня ела какой-то вонючий рыбий малярный клей, ела и жуткий военный конский комбикорм (его делали из древесины) и вскоре сошла с ума. Прабабушка отправила ее на Пряжку, и это обстоятельство, представьте себе, спасло ей жизнь. Там она провела почти год и вышла вполне трудоспособной. Потом моя бабушка отравилась хлором во время аварии на водопроводной станции, перед войной у нее уже было профессиональное отравление. Она стала глохнуть, появились другие болезни, и с работы пришлось уйти.
Давно забыта съеденная в октябре баночка шпрот, из которой жир был выбран до последней капельки. Рыбий жир из аптечного пузырька тоже съели, картошку на нем изжарили, пока еще картошка была. Выпиты солоноватый жидкий гематоген и сладкая микстура от кашля. Съедены гомеопатические крупинки, изготовленные из сахара – дозы лекарств в них такие, что вреда не было. На горьком касторовом масле Мария Семеновна жарит лепешки из черного жесткого жмыха – дуранды. Валя считает, что дуранда похожа на довоенную халву. До войны папа рассказывал, что в давние времена, еще при царе мальчишки брали с собой на завтрак в коммерческое училище халву и хлеб с маслом. Зачем тогда им была халва и масло, если был хлеб? Много хлеба....
– А помнишь, Валечка, как ты корочку не доела?
– А помнишь, Нелечка, мы были такие глупые и бабушкин мясной суп не доедали? А как я бегала в гости к Вере Петровне, и она угощала меня черным хлебом с соленым огурцом?
– А как мы спрятали мармеладку за бабушкину кушетку?
Мармеладка высохшая, твердокаменная, нашлась в «тайнике» – щели между кушеткой и стеной. Волшебная сладость, сказочный аромат, созданный искусниками на папином заводе. Но какая это кроха! Кстати, ароматические фруктовые и ромовые эссенции, изготовленные на заводе химико–пищевой ароматики, даже в микродозах все–таки подкрепляли силы, что-то в них было – тот же спирт. Спасал обмен вещей на продукты. Однажды часы пообещали поменять на муку. Эта экспедиция едва не стоила Соне жизни. Худая, одетая в два пальто, замотанная в платки, она все–таки смертельно испугалась того сытого гладкого военного, который повел ее в Казачьи казармы на Обводном (за Лаврой). Длинные темные коридоры. Военный забрал часы и исчез. Соня чувствовала ужас: военный производил какое-то даже на фоне общего кошмара жуткое впечатление. По–моему, она так и ушла без муки, слабо радуясь тому, что осталась жива. Однажды в хлебной очереди у Нели какой-то паренек вырвал карточки из рук. Паренька стали бить всей толпой, но карточки пропали! Десять дней до конца месяца надо было дожить. Помогла одна знакомая фельдшерица, она меняла Сонино довоенное белье и платья на крупу.
Те, кому выменять ничего не удавалось, вымирали целыми семьями. Так, одни соседи по дому (муж и жена – сотрудники Эрмитажа) берегли свои «антики» до последнего, не решаясь разрушить коллекцию, а потом уже сил у них не было этим заниматься. Наверняка, все их редкости попали в лапы хищников. Честный-то дворник Николай Иванович умер. Еще в одной семье соседей по дому случилась такая трагедия: одна дочь ушла на фронт, другая где-то работала или эвакуировалась, а третья, Аля, младшая, ей только 18 лет исполнилось, устроилась в столовую работать калькулятором (рассчитывать вес продуктов и выход готовых блюд). Какие-то крохи, суп там дрожжевой или кашу–приварок, что в котле всегда образуется, выносила домой умирающим родителям. Наверняка, столовское начальство воровало куда больше. Но, как водится, начальство осталось безнаказанным, а посадили Алю по статье за кражу, выслали по этапу на Большую землю. Да, заключенных этапировали через Ладогу, и это была та же самая «Одиссея»: кто-то переживал дорогу смерти» («дорогой жизни» ее назвали позже), кто-то нет. После войны Аля отбыла часть срока и освободилась досрочно, потому что родила сына Никиту («бытовичек» и уголовниц в таких случаях освобождали). Недавно я совершенно случайно от одной старой петербурженки узнала о дальнейшей судьбе Никиты. Жил он нелегко, побывал даже в психиатрической больнице, работал в конструкторском бюро, несколько лет назад умер еще не старым человеком.
Первыми стали умирать мужчины: дворник Николай Иванович, плотник Титов, потом младенцы. Умер годовалый малыш у соседки Тани Эпштейн. Сама Таня прожила до старости там же, на той же улице, больше у нее детей не было. Умерли мальчишки–инвалиды: мальчик из бедной татарской семьи по прозвищу «Храм», он хромал, и жестокие ребята прозвали его за физический недостаток и Адольф – несчастный еврейский паренек с таким неудачным именем, страдавший, видимо, ДЦП. В пыльно–серой одежде на телегах с бедными пожитками приезжали беженцы. Они казались не живыми людьми, а тенями или потемневшими деревянными изваяниями. Некоторые из них говорили на непонятном языке. Они жили почему-то в каком-то деревянном сооружении, то ли магазине, то ли временном садовом павильоне. Карточек у них не было. Сначала дети из окрестных домов носили им кусочки хлеба, потом корочки. А потом и корочек не стало, и беженцев тоже.
На углу улиц Маяковского и Некрасова было место, где первой зимой складывали трупы. Потом их уже оттуда увозили на Охтинское и Пискаревское. О людоедстве Валя и Неля слышали, как о чем-то реально ужасном, но рядом с ними этого не происходило. Животных во дворе съели, голубей мальчишки еще осенью переловили, это – да. Остались в голодном городе ненасытные крысы. Говорили, что были случаи нападения крыс на младенцев со смертельным исходом. Рассказывали и еще один «триллер»: привезли дрова из пригородного леса и сложили прямо в комнате. Малютка лет трех–четырех испуганно показала маме на дрова: «Мамочка, там червячок!» Мать снова убежала на работу и не придала значения словам ребенка, а потом рвала на себе волосы. Она вернулась наутро и нашла девочку мертвой, оказывается, в дуплистом полене привезли живую гадюку, и та укусила девочку. Такая вот необычная и жуткая смерть. Но чаще всего умирали собственно от истощения: кто от голодного поноса, у кого отказывали почки и развивались отеки, кто от воспаления легких. Однажды бабушка Мария Семеновна в отчаянии бросила: «Идите, дети, на улицу, кричите – дайте нам хлебушка!» Хотя, конечно же, она прекрасно понимала, что никто им на улице не поможет. Помогли не на улице, а в школе. Открылся детский стационар.
Лунный вальс
Наверное, это было в марте. Или еще в феврале? Уже организовали стационары для дистрофиков. В школьном спортзале, уставленном железными койками, лежали дети, от первоклашек до почти взрослых. Попала туда каким-то чудом или хитростью и 18–летняя карлица Вера, видимо, из–за малого роста она сошла за ребенка. Вера вскоре подкормилась, и ее выписали. Но не о Вере сейчас пойдет речь. Что могли сделать тогдашние медики? Чем лечили истощение? Дрожжевой суп, соевое молоко, иногда даже капля настоящего сливочного масла. Однажды выдали...по три черных икринки. Глюкоза внутрь (самым тяжелым, возможно, вливали внутривенно, хотя тогда это практиковалось намного реже), хлористый кальций для укрепления косточек, бромистый натрий с валерьянкой на ночь, хвойный настой от цинги. Валя с удовольствием пила все лекарства, даже кальций – горечь заглушала голод. Однажды ночью (или не ночью, просто было затемнение), но я думаю, что это была ночь, и на черном ледяном небе висела посреди МПВО–шных прожекторов луна, послышался «Лунный вальс» из довоенного фильма «Цирк». Нет, не из черной радиотарелки он доносился, и не патефонная игла с шипением ползла по шеллачным дорожкам. То было живое исполнение, вернее, чуть живое. Пела тоненьким голоском незнакомая девочка на одной из соседних коек. Пела мелодично, нежно. Валя не спала. И другие тоже не спали. Лежали молча, не перешептываясь, зачарованные. Где-то там, в небывалом довоенном времени, улетала куда-то к звездам светловолосая красавица артистка. Там по очереди пели на разных языках колыбельную курчавому американскому мальчику. Там пахло не дымом и не карболкой, а чем-то забытым, как от пустого флакончика из–под маминых духов или конфетного фантика. Там было тепло и много всякой еды. Там было светло, и никто не умирал. Валя подумала, что девочка эта – настоящая артистка. Какой у нее голос! Может быть, утром удастся ее увидеть? А, может быть, повезет даже познакомиться? Утром в стационаре уже никто не пел. На опустевшей койке поменяли постель и положили кого-то новенького.
Сладкий хлеб
Эту главу повести мама написала сама за несколько лет до смерти. Глава была опубликована в книге Натальи Рафаиловны Левиной «Лучшие минуты» СПб изд. «Золотой век», 2003 г. Речь в ней идет о Евгении Романовне (Робертовне) Борисовой, маминой любимой учительнице, очень светлом и близком человеке. Евгения Романовна в блокаду потеряла всех близких, чудом выжила сама. Она преподавала естествознание, любила животных, и до войны у нее жила черепашка Климочка. Эта умная рептилия (какой-то ум есть, наверное, и у этих холоднокровных тварей) уползла в какой-то дальний угол и впала в анабиоз. Проснулась и выползла Климочка только весной. У Евгении Романовны рука не поднялась на это чудо природы. Она потом еще сколько-то лет после войны прожила, эта черепашка–блокадница.
В первую зиму блокады 1941–1942 г.г. мы с сестрой в школу не ходили. Неля и я пошли в школу весной 1942 года, когда оставшихся в живых ребят стали собирать на учебу. В школе нас кормили три раза, мы оживали и из маленьких старичков и старушек постепенно превращались в детей, хотя шумных игр не затевали, не было сил.
 Мамин класс. Женская школа № 189. 1945 год
Мамин класс. Женская школа № 189. 1945 год
Из-за частых обстрелов и бомбежек большая часть занятий проводилась в подвале – бомбоубежище. Начинали мы учиться в 203–й школе, а потом нас всех перевели в 189 школу. Занятия продолжались и летом 1942 года, без каникул. Осенью 1942 года я начала учиться во 2 классе у Екатерины Леонардовны Шпильберг, а моя сестра Неля в 4 классе. Ее классным руководителем была Евгения Романовна Борисова. Как сейчас, помню ее – высокая, очень худая, с проседью в очень темных волосах, добрые, внимательные глаза слегка косили. У нее был приятный, мелодичный голос, и когда мы сидели в убежище в соседних отсеках, то я невольно прислушивалась к рассказам Евгении Романовны. Она рассказывала захватывающие истории о путешественниках, о дальних странах, о диковинных животных и растениях. Это было необыкновенно интересно. Каюсь, вместо того, чтобы слушать объяснения своей учительницы и скучные правила орфографии, я прислушивалась к тому, о чем рассказывала Евгения Романовна. Позже, много лет спустя, Евгения Романовна сказала мне, что нарочно старалась рассказывать эти удивительные истории, чтобы вывести нас из апатии, отвлечь от мыслей о еде, от ужасов войны, бомбежек, смертей близких людей и сверстников. Однажды произошла забавная история, о которой мне рассказала моя сестра. В их класс влетела девочка, ученица нашего класса Софа Бербровер и затараторила: «Евгения Романовна! Екатерина Леопардовна просит у вас регистрационную тетрадку!» В ответ раздался хохот. Евгения Романовна сдержанно улыбнулась и поправила девочку: «Надо говорить Екатерина Леонардовна». Евгению Романовну любили и уважали даже самые отчаянные хулиганы, которых учителя называли «карточными мальчиками» (они приходили только столоваться). Однажды случилось несчастье. Один мальчик из Нелиного класса не захотел снимать шапку в школе. Тогда в школе занимались в пальто, но шапки снимали. В классах было холодно, замерзали чернила – речь идет о зиме 1942–43 г.г. Чернила оттаивали и становились водянистыми, писать было неудобно. Евгения Романовна попыталась заставить его снять шапку. Он толкнул ее, и она упала навзничь. Действие происходило в коридоре. Пол был кафельный, и Евгения Романовна сломала ногу. Ее отнесли в небольшую комнату, служившую учительским общежитием. Я хорошо помню, как она лежала у печки на койке. Потом молодая учительница Галина Владимировна отвезла ее на финских санях в больницу, находившуюся в помещении 200 школы, о чем мне позже рассказывала сама Евгения Романовна. Как-то нам выдали в школе соевые конфеты, и некоторые ребята, даже кто-то из мальчишек–хулиганов, отдавали свои конфеты для Евгении Романовны, которую навестили в больнице ее ученики. Евгения Романовна позже говорила, что в больнице ей спасли жизнь, так как там давали усиленное питание, а она была очень истощена. Летом 1943 года Евгения Романовна со своим классом ездила в деревню Порошкино. Она, как могла, старалась подкормить ребят и работала с ними в поле. К сожалению, нет в живых моей сестры Нели, которая могла многое рассказать о Евгении Романовне и ее классе. Евгения Романовна учила нас выживанию, к примеру, объясняла, что пайку хлеба надо съедать не за один присест, а жевать медленно по маленьким кусочкам, и хлеб становится от этого сладким на вкус. Сама она ела маленькими кусочками, медленно, даже изящно, хотя была очень истощена. Вообще от Евгении Романовны исходило какое-то тепло, доброта, всегда хотелось быть поближе к ней. Много лет спустя я разыскала Евгению Романовну, когда уже не ожидала застать ее в живых. Она стала мне родным, близким человеком. Пожалуй, из всех учителей 189–й школы ее единственную вспоминала я всю жизнь с большой благодарностью.
... И о том, что было не с нами,
Что самой пришлось пережить,
мне блокадного детства память
никогда не дает забыть.
Не дает забыть и забыться
эта память военных лет...
Картофельные оладьи
Одно из моих обожаемых блюд картофельные оладьи. Это у нас семейное. Теперь, правда, мне их нельзя, доктор не велит, но это так, к слову. Ах, как их можно приготовить! Натереть картошку на мелкой терке, и в это сочное, бело-розовое, свежестью пахнущее, добавить муки, мелкой, пушистой, как снег, просеянной через сито, и соли, которая тоже белая, но блестящая и немного колючая в щепоти, ее всегда отмеряешь на глазок, так вкуснее. Можно вбить в тесто яйцо, можно и обойтись. Жарить все это великолепие полагается на подсолнечном масле, чуть–чуть выдержать на сковородке под крышкой, пока не запечется на них хрустящая золотистая корочка, а потом подавать со сметаной, можно и с грибным соусом, и даже с кетчупом. В 1943 году моя прабабушка Мария Семеновна собирала на столовской помойке картофельные очистки, чтобы испечь оладьи на хлопковом масле. Темные получались те оладьи и с горчинкой, но Валя и Неля их на всю жизнь запомнили, как самый что ни на есть деликатес. Однажды там, на задворках, выгружался продуктовый фургон. Шофер дал задний ход и сбил Марию Семеновну. Расшиблась она сильно, но как-то обошлось, еще двадцать лет прожила. Мама рассказала мне эту историю, когда мне было лет восемь или девять. На что я спросила: «Мам, а кто ел саму картошку?» Столовая была при райисполкоме.
Кино
Кинотеатр «Спартак» на Кирочной располагался в той самой Анненкирхе, которая дала свое имя улице и школам (обе школы когда-то были Анненшуле).

 Аннешуле
Аннешуле
Во время войны уже после первой зимы в нем недолго работала билетершей мамина тетя Галя.
 Мамина тетя Галя – Генриэтта Зиновьевна
Мамина тетя Галя – Генриэтта Зиновьевна
Валя, Неля и их подруги, бывали в кино чуть ли не каждый день. Тетя Галя могла провести племянниц бесплатно, но Вале нравился сам процесс покупки билета на выпрошенную у той же тети Гали мелочь и отрывания бумажного корешка. Перед сеансом устраивали маленький концерт. Одна женщина – музыкант играла на гуслях, другая на аккордеоне или баяне, выступала певица, читала стихи актриса – мастер художественного слова. Валя и Регина сами сочиняли стихи, разумеется, о войне, очень искренние, патетические и, как ни печально, слабые. Вале нравилось не только сочинение своих, но и чтение чужих стихов, она уже выбрала себе профессию, решила стать артисткой, и не просто чтицей, а мастером художественного слова. Какие фильмы шли в «Спартаке? В первую очередь военные. Кинохроника и художественные. «В шесть часов вечера после войны», «Два бойца», «Она защищает Родину». Валя уже тогда интуитивно восхищалась игрой Веры Марецкой и потом любила ее, Василия Меркурьева и Марка Бернеса. Но, кстати, шли и комедии – «Швейк во второй мировой войне», например. Девочки потом цитировали его и хохотали над грубыми, но все–таки такими живыми солдатскими шутками. Иногда показывали довоенные фильмы: «Свинарку и пастуха», «Цирк». Уже после блокады, когда эвакуированные вернулись, школьницы из не так давно организованной 189–ой женской школы смотрели документальный фильм «Ленинград в борьбе». Девочки, вернувшиеся из эвакуации, смотрели, конечно же, переживая увиденное, но относительно спокойно. Блокадные девочки дружно заплакали, были настоящие истерики и чуть ли не обмороки. Современные психологи, разумеется, смогут объяснить это. Дети только что все это пережили, уже вроде бы все самое ужасное позади, и вот–возвращение, пусть иллюзорное, пусть на черно–белом экране. В наши дни я слышала от людей, переживших современные войны, что праздничные фейерверки напоминают им обстрелы.
Песни войны
Инженер-капитан Г. мало рассказывал о войне. Чаще он пел военные песни. У него был неплохой баритон и хороший слух. Что он пел сначала дочкам, а много лет спустя совсем маленькой внучке? Часто это была «Темная ночь» или «Застольная Волховского фронта», и еще «Эх, дороги...», и «Прощай, любимый город!», а иногда совсем печальная «Враги сожгли родную хату». Иногда «От Москвы до Бреста», «В лесу прифронтовом» или «На солнечной поляночке». А еще он говорил, что на фронте сами солдаты поют совсем не те песни, что артисты военных ансамблей песни и пляски. Настоящие военные песни никогда не пели ни с эстрады, ни по радио. Я, увы, не знаю ни строчки из тех песен. Пожалуй, ближе всего к ним по настроению «Темная ночь», которую пел Марк Бернес, любимый артист моего деда – того самого инженер–капитана Г. Уже в последний год жизни дедушка грустно повторял строчку из другой, послевоенной песни, которую пел Марк Бернес на стихи Расула Гамзатова: «...Быть может, это место для меня...».
Хорошо пела Неля: и военные песни, и старинные русские романсы, и украинские песни. По–украински пели все родственники, а вот на идиш девочки уже не говорили, только что-то понимали. У Вали слуха не было, но она очень любила петь о войне все ту же «Ладогу» и «Застольную Волховского фронта» и еще «Ленинград мой, милый брат мой», и «Барона фон дер Пшика». А еще моя мама считала, что городов – героев по–честному должно быть всего четыре: Ленинград, Одесса, Севастополь и Сталинград, он же Волгоград. Москве мама в этом праве отказывала, считая, что октябрьская паника опозорила москвичей навеки. И еще мама иронизировала, когда я, будучи еще школьницей, почему-то считала, что во время войны все обожали «Синий платочек», будто бы других песен не было. А еще, это уже позже, Валя пела про Джеймса Кеннеди и «Мы летим, ковыляя во мгле».
Блокадный пионерлагерь
Летом 1943 года произошло в жизни моей будущей мамы нечто фантастическое. Школьников отправили в пионерский лагерь за город. Вы можете удивиться, какие там пионерские лагеря? Война, блокада, голод. Но это случилось в 1943 году третьим военным летом. В блокаде оказались не только собственно городская территория, но и прилегающие к границам города с северо-запада, севера и востока районы области. Ребят из маминой 203-й и других школ тогдашнего Дзержинского района отправили в деревню Пугарево. Сначала их привезли на трамвае на станцию Кушелевка. От трамвая ребята шли через какой-то парк, в котором стояло старинное здание, превращенное в госпиталь, это была Лесотехническая Академия. На станции Кушелевка ребят посадили в дачный поезд и привезли на Всеволожскую. До Пугарево, обезлюдевшей после выселения финской деревни, младших и более слабых подвезли на грузовике с вещами, а те, кто был постарше и посильнее, шли пешком. Лагерь считался пионерским, а в пионерах вроде бы числились до 14 лет, но уже 13–летняя моя будущая тетушка Неля в то лето работала в школьном трудовом лагере в совхозе, потом она заболела, и ее отправили в Ленинград. Что было в лагере? Лес, луг, речка, забытые ленинградскими детьми цветы, бабочки, птицы. Ожили тощие ленинградские дети, стали играть, мальчишки дрались, кое–кто из второгодников поворовывал, их из лагеря с позором выгнали на линейке. Разумеется, линейки, пионерские сборы, прополка колхозного огорода, где Валя не могла выполнить норму, военные игры, песни. Валя запомнила, как они нашли в лесу анютины глазки, и ее подружка Нина стала уверять, что это могила летчиков. Валя очень хотела совершить какой-нибудь подвиг, а для этого сбежать на фронт, но все не получалось, сил недоставало, вот если подрасти...
Были, между прочим, и приключения. Валя где-то играла с подружками Олей и Ниной и потеряла пальтишко. Было тепло, сняла, осталась в платьице. Пальто не пропало, старшая вожатая на линейке объявила о находке. Валя побоялась, что ее будут при всем лагере ругать и не призналась. Так пальто и осталось у начальства, а дома бабушка все равно ругалась – с вещами-то плохо было.
Как-то раз Валя и ее практичная подружка Нина отправились в лес по чернику. Нина собирала ягоды в маленькую баночку и засыпала их сахаром, который выдавали по чайной ложке в день, чтобы отвезти своей маме. Забрели куда-то подальше, угодили в болото, испачкали платьица, промочили ноги, а тут еще в кустах кто-то хрустел ветками и пыхтел. Городские девочки пустились по лесу бегом, запинаясь о коряги, я уж не помню из маминых рассказов, уцелела ли Нинина баночка с ягодами. Разумеется, они подумали, что это медведь. Много лет спустя Валя вспоминала эту историю и все гадала, так медведь это был или человек, возможно, дезертир, скрывавшийся в лесной чаще? Версии с участием лося, кабана или беглой деревенской коровы тогда не рассматривались. Дальше сказочная история продолжилась в лучших традициях. Две «Маши», спасаясь от медведя, выбрели к избушке лесника, там их накормили чем-то и напоили настоящим молоком, а потом отвели в лагерь.
В военно-спортивной игре, в которой даже Валя успешно метнула деревянную гранату, отряд получил приз. Вожатая принесла огромную картонную коробку, на которой были нарисованы улыбающиеся и румяные довоенные дети и крупно написано «Крикет». Что подумали ребята? Что в коробке конфеты. А в коробке оказалась старинная летняя игра с воротцами, шарами и молоточками, что вызвало некоторое разочарование.
Однажды у Вали был свой праздник. Летом всегда хочется праздника, даже в мирное время. А в войну тем более. К Вале с фронта в гости пришел папа. Не приехал, пешком пришел за тридцать километров с ладожской трассы, шел он где-то 5–6 часов. Быстро и легко шагал Валин папа, стройный и подтянутый, не слишком молодой, конечно же, для только что полученных старлеевских погон. Папа пришел к дочке посреди третьего военного лета! Так давно он не видел своих! Перед походом в гости он поменял табачный паек на настоящую шоколадную конфету. Когда-то в давно прошедшем довоенном времени папа привез дочкам из Москвы шоколадных зверюшек – зайчика и кого-то еще, а бабушка Мария Семеновна их потихоньку растапливала и превращала в какао с молоком, считая, что есть шоколад детям вредно, а понемножку пить какао полезно. Валя тогда горько расплакалась, узнав о том, что бабушка разделала зайчика. Сейчас она и забыла о том, что на свете бывает настоящий шоколад. Папа дал ей эту самую роскошь. Валя развернула конфету, съела, не понимая вкуса, что-то забытое, ужасно сладкое, маслянистое, приторное, невероятное, оно оказалось настолько непривычным, это лакомство, что организм его не принял, проще говоря, стошнило. Много лет спустя Валя помнила это и корила себя: «Вот, папа с трудом раздобыл конфету, а я...».
Сохранилась маленькая фотография 6х9, сделанная заезжим фронтовым репортером в лагере. На ней худенькие дети играют в мяч. Валю с трудом можно узнать, все фигурки там с бисерного размера головками.
А самым светлым воспоминанием моей мамы о Всеволожской были цветы «аленький цветочек» – так она назвала впервые увиденную луговую герань, и «Венерин башмачок», тогда еще росший вольно.
Осколки
В 1943 году уже не так голодали, как в первую зиму, и к участившимся обстрелам дети привыкли. Нам кажется это странным и невозможным, но мама говорила, что было это именно так. Вот убило снарядом двух женщин – немолодую мать и дочь около кинотеатра «Спартак». Многие видели, что их на куски разорвало. А на следующий день ребята все равно лихо бегали под обстрелом и даже собирали после него осколки снарядов. Валя тоже собрала коллекцию, а бабушка Мария Семеновна нашла и все осколки повыбрасывала с криком. Она как-то ирррационально боялась, что осколки «притянут» к дому снаряд. Притянули в итоге, к счастью, никого не убило, только рамы сорвало и Валю слегка контузило. Потом у нее долго руки дрожали и голова кружилась.
В конце войны
27 января 1944 года Валя сначала испугалась салюта, подумала, что это обстрел. А потом все на улице обнимались и плакали. Однажды инженер–капитан Г. приехал в Ленинград с фронта с несколькими сослуживцами по каким-то делам, а заодно и родных навестить. И вот «студебеккер» или «форд», что это было, Валя не знала, въезжая под арку, так красиво надел на себя деревянные ворота! Что тут было! Управдомша по прозвищу Кобра перекричала, наверное, всю артиллерию Ленинградского фронта, хотя ей полагалось, по идее, тихо и зловеще шипеть. Пришлось солдатам чинить ворота, а штабу дедушкиного автобата платить какие-то деньги. В тот или же в другой приезд отца однажды любопытная Неля утащила кобуру с пистолетом, достала и прицелилась в Валю. Капитан–инженер Г. мгновенно выбил из Нелиных рук пистолет, и все обошлось, слава Б-гу! Валя и Неля – две счастливые девчонки идут по Воскресенскому проспекту с папой. Это их папа живой, целый, в офицерском кителе, с медалью! Девочки повисли на папиных руках, а тут навстречу какой-то штабной чин, и папа не сразу честь отдал, ладно, обошлось без гауптвахты. Одну дедушкину сослуживицу, приехавшую с фронта, патруль задержал за неформенный свитер. Вот крысы! Эта женщина есть на смутной пожелтевшей фотографии. Ее звали Рита. Если правильно помню, уже где-то в последние военные дни она подорвалась на мине.
Кузнецовский фарфор
Жили–были две соседки. Одна – роскошная жена командира, позже ставшего называться офицером, другая – обычная шумная старушка из «ремесленников» или «служащих». В конце войны уже кое–какие продукты стали появляться, а эта самая офицерская жена к тому времени могла пришить себе на юбку лампасы – мужа произвели в генералы. Вот устроила она торжество, раздобыла мяса, косточек телячьих или свиных, затеяла студень. А для студня нужно блюдо. Подходящее блюдо – настоящий кузнецовский фарфор, имелось у соседки, той самой хозяйственной и скандальной старушки. И вот незадача, генеральша разбила блюдо. Кажется, ну что такого, война прошла, столько домов разбито, столько людей погибло. Но вот именно поэтому каждому столь ценны его родные старые вещи, частицы его дома. Старушка потребовала компенсации. Генеральша принесла советскую тарелку с серпами и молотами. Старушка не знала, что агитфарфор окажется в моде всего полвека спустя, она подняла крик: «Мне советского дрэка (на идиш дерьмо) не надо!» Генеральша донесла в НКВД. Старушку забрали, и в родной дом она не вернулась.
Гостья с фронта
1944 или 1945 год. На урок английского к Анне Семеновне пришла гостья – довоенная студентка Люся. Школа женская, класс четвертый, девочкам по 11 или 12 лет, и они, пользуясь тем, что учительница отвлеклась, расшумелись. Анна Семеновна пристыдила учениц: « Как же вы так! У нас сегодня гостья с фронта!» Девочки разглядывали гостью, почему у нее шинель без ремня? А гостья пригрелась у печки и даже вздремнула, усталая. Демобилизовали ее по самой уважительной на свете причине – рожать.
Анекдоты
Анекдоты и в войну рассказывали. Валя запомнила кое–что и много лет спустя рассказывала. Умер однажды Блат. Положили его в гроб, хотят заколотить крышку, а гвоздей нет. Встал тогда Блат из гроба и сказал: «Вот видите, без меня никуда! Пойду еще поживу!» Так и не обойтись без Блата.
Бегут по улице люди и кричат: «Взяли! Суфле взяли!» Встречные спрашивают: «А где это Суфле, в Австрии, в Венгрии?»
– Да нет, вон за углом в магазине дают! (суфле – это американское сухое молоко).
Первая послевоенная зима. Идет дама с чернобуркой на шее – майорша. Следом дама с двумя чернобурками, как легко догадаться, подполковница. Третья дама с тремя чернобурками – полковница. Всех переплюнула генеральша, у нее лисьи хвостики на орденской колодке.
Офицерскую жену спросили «А Ваш рояль с резонансом?»
– Мой муж рояль достал и резонанс достанет!
Мальчик пишет папе на фронт: «Папочка! Приходи скорее с войны! Прогони мамкиного лейтенанта и соевую корову!» Соевая корова – мифический источник соевого молока.
У бабушки на водопроводной станции одна женщина сочиняла стихи, и я запомнила уже с маминых слов ее четверостишие:
О, горе-модницы блокады,
Вы разодеты в пух и прах!
На голове тюрбан турецкий,
Шанхай китайский на ногах! (Тогда носили туфли кустарного производства на деревянной подошве, а на голову повязывали платки.)
Динка
Однажды в начале двадцатого века мальчику Жоржу приснилось, что он попал в старинный немецкий город. Островерхие черепичные крыши, красный кирпич, палисадники, розы и плющ. Готика (начитанный Жорж знал это слово), Гофман, братья Гримм из коленкорового переплета с золотым тиснением.
Кенигсберг. Руины после боев. Местное немецкое население покинуло город, спасаясь от мародерствующих солдат Красной Армии. По городу бродят породистые собаки. Однажды к офицерской кухне прибилась такса. Вот ведь умная псина, у офицеров и приварок посытнее, и собеседников найти проще. Выбрала эта собачища моего деда, он хорошо говорил по–немецки и разбирался в собаках. О чем советский офицер с явно семитскими чертами лица разговаривал с немецкой таксой? Скорее всего, разговор был о том, что собака красивая, умная, что у нее длинные милые уши и мокрый нос. Может быть, капитан-инженер Г. рассказывал собаке о своих дочках, которые были бы так ей рады, но вот жена... жена не потерпит собаку, это же беспорядок. Такса привела мужа, такого же черно–подпалого кобелька. Его тоже поставили на довольствие. Три или четыре дня спустя вернулись хозяева, стали звать собаку, она не вернулась к ним, обидевшись на то, что ее бросили одну под обстрелами во время штурма Кенигсберга. Хозяин сказал, что собаку зовут Дина фон что-то там. Динка и ее «муж» – глуповатый песик отправились вместе с офицерами через всю Евразию по диагонали на японскую кампанию, на сопки той самой Маньчжурии, о которой Жорж услышал впервые в пятилетнем возрасте. Но где-то по дороге кобелек выскочил из вагона и попал под колеса, а Динка осталась. С войны Динка отправилась жить к молодому майору З. Несколько лет спустя после войны он приходил в гости к сослуживцу. Валя несла из кухни домашнее печенье, испеченное бабушкой. Собак в доме никогда не держали, поэтому Валя не поняла, что это коснулось ее ноги, сделала неосторожное движение, наступила Динке на лапу. Динка в ответ тяпнула за ногу Валю, на чем обе красавицы решили, что они квиты, и помирились. Динка прославилась на первых послевоенных собачьих выставках и стала праматерью питерских гладкошерстных такс. А Валя не прославилась ничем, но научила единственную дочку любить собак.
Молоток для Гитлера
Есть у нас дома довоенный стальной молоток. Штука тяжелая, но крайне удобная! Можно гвоздь забить, можно тот же гвоздь выдернуть, можно даже замок отжать, если дверь захлопнулась. Валя хотела этим молотком разбить голову Гитлеру, если бы он вошел в Ленинград. Кто-то из знакомых предложил подарить молоток Музею обороны Ленинграда, реликвия все–таки. Я отказываюсь. Пока время не пришло, пусть дома лежит на всякий случай.
 Молоток
Молоток
Круг замкнулся
Мама родилась в 1932 году в «Снегиревке» на Надеждинской, позже, улице Маяковского, а умерла в 2004 в Мариинской (Куйбышевской) больнице. Это почти рядом, все эти больницы построены на месте бывшего Итальянского сада, отошедшего в давние времена к ведомству императрицы Марии Федоровны (Благотворительному ведомству). За несколько лет до маминой смерти мне приснился кошмар, что мама поехала к Евгении Романовне на могилу на Охтинское, там ей стало плохо с сердцем, и я, как будто бы, вхожу в старинный больничный корпус, покрашенный в казенный желтый цвет, и мне говорят чужие люди, лиц их во сне не видно, что мама умерла от инфаркта. Мама действительно умерла в таком желтом здании, но не от инфаркта, а от рака кишечника после тяжелой операции. Операцию сделали удачно, но три дня спустя отказали печень и почки. Я уже сдала для мамы кровь и побежала из донорского отдела в реанимацию, где мне и сказали. До конца дней своих буду помнить нежную апрельскую травку, светлый больничный коридор, по которому разгуливали счастливые пациенты с дренажными трубками, торчащими из марлевых наклеек на том или другом боку и добрую пожилую докторшу–патологоанатома, которая подробно мне всю картину описала. Мама попала к хирургам трагически поздно, уже с метастазами. Когда маму хоронили, тетка – распорядительница в крематории удивилась, как это, обычную бабулю провожают 23 человека. Я объяснила, что среди них есть одноклассницы, и одна из них – подруга с блокадных лет. Мама лежит на кладбище питерского крематория – самом бедном и самом уютном. На ее могиле я устроила маленький альпийский садик.
Сны
В моих снах мама возвращалась домой из больницы, и я ужасалась своему обману, как же я устроила чудовищные фальшивые похороны неизвестно кого, когда мама лежала в больнице совсем одна?! Сон этот повторялся многократно и прошел только после моей собственной тяжелой болезни. Еще в одном сне мы с мамой (мама уже немолодая, я взрослая, но мне где-то лет 18 или 20) почему-то находимся в каком-то месте вроде маленькой станции, мы все по–летнему одеты, там толпа, и все должны ехать куда-то на открытых платформах по железной дороге. Похоже, что это война, и что, возможно, нас увозят в концлагерь, потому что мы евреи. Дальше сон прерывается. В другом кошмаре я живу вместе с мамой в блокадном Ленинграде, опять же маме непонятно сколько лет, а мне лет на 20 меньше, чем сейчас, и мы должны съесть любимую кошку, и я должна ее убить. Я не могу зарубить бедное животное быстро, это ужасно, просыпаюсь в холодном поту. Осознаю, что я в реальности 2007 года. Мамы нет уже три года. Нахожу Джельси, беру к себе в постель, целую и обнимаю, и обливаю слезами ничего не понимающее удивленное живое существо.
Еще в одном сне августа 2004 года мама вернулась домой, так отстраненно увидела Авоськина и спросила: «У тебя новый котенок?» Потом мама сказала: «Я встретила отца».
– Ты сказала ему, что болеешь, что тебе сделали операцию?
– Да.
– Как он к этому отнесся?
– Спокойно.
Не удивительно, мало ли он на работе видел онкологии? И я поняла, что ТАМ они встретились. И помирились. В самом светлом сне я вижу маму на берегу финского озера Кохвиярви. В нем черная, как хороший кофе, вода, а вокруг сосны до неба, березы и осины, и вереск, и бархатные грибы. Мама там в гостях у каких-то славных стариков, они сидят на берегу в белых креслах ведут задушевные беседы и пьют кофе со сливками. Я спрашиваю: «Мамочка, а тебе можно кофе?» Мама отвечает, что ей все можно, я забываю ее спросить, а растет ли тут ее любимая малина? А нет ли страшных лесных ос? Почему-то в этом сне я понимаю, что маме тут хорошо, и что я даже где-то лишняя со своими расспросами. А какой там лес! В нем хочется быть вечно...
Нина Рябушкина
РЕКОМЕНДУЕМ
АНОНСЫ
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
190121, Россия, Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, 2